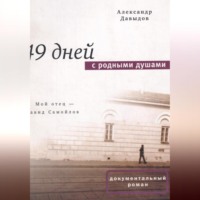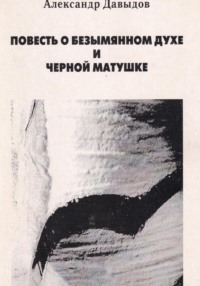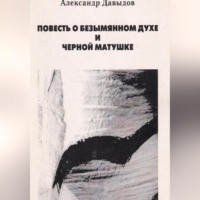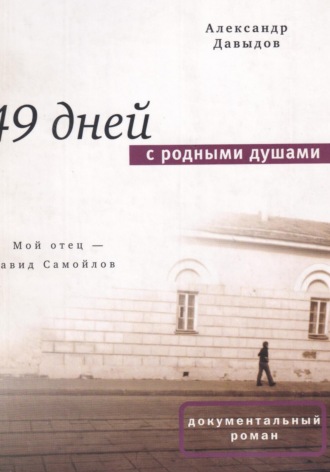
Полная версия
49 дней с родными душами

Александр Давыдов
49 дней с родными душами
День 1
27 января, воскресенье
В нашей виртуальной жизни, где все сбывшееся скромно притулилось на обочине, оттесненное туда несбывшимся, но настойчивым, хорошо вымышленным и ярко нафантазированным, что остается от меня самого, раскатанного, раздерганного на клочки собственным воображением? Если б не белые листы да снующий по ним шарик, – то, что способно укротить, хотя б немного природнить несбывшееся, где б я сейчас был и что б со мной стало? Возможно, впал бы в какой-нибудь род безумия, чувствовал себя запертым в клетке со своими хищными фантазиями, как их жертва. Теперь же могу вообразить себя даже и укротителем, поигрывающим бичом. Но скорей всего жил бы как живу, даже слаще и вернее чувствуя жизнь без посредства шуршащей бумаги, множащей и так разросшуюся виртуальность. Короче, был бы как большинство других. Это ведь детская или, там, юношеская гордыня, воображать собственную уникальность. Людские фантазии не столь уж неисчерпаемы, и вымыслы наши все вторят друг другу. Всяк вымышляет себя, кто на бумаге, кто красками, кто звуками, кто мечтаньями. И всяк – персонаж собой же сочиненного романа. Вот и я таков же, – кажусь себе иногда нецельным и бледноватым, разбросанным по листам своих сочинений. Я, как и все – совокупность виртуалов, а из множества плоских изображений трудно слагается объем. Сейчас дух переведу и что-нибудь скажу дальше.
Так вот, исписанные листы, они и собирают себя, они и усугубляют нецельность. Есть нечто монструозное в подобном саморасчленении. Страшней, должно быть, изрубленного человеческого тела, разъятая человеческая душа. А еще представить себе, как все виртуальные монстры восстанут разом, разбуженные ангельскими трубами. И вот такая вереница душевных уродов потянется к Божьему Престолу. А до того, найдут ли они покой со смертью человеческого тела. Возможно ль убить виртуал или человеческую фантазию? Я так представляю, что ее порожденья не уходят ввысь, а стелятся по земле, как пар над свежей могилой. Какой печальный зачин, какие кошмарные виденья. Случайный читатель, отбрось мою писанину. У тебя и своих забот хватает. Впрочем, от своих видений ужаса ты все равно не избавлен, а пространство наших фантазий, как я уж успел напомнить, не беспредельно. И страхи наши сходны, и самые интимнейшие сны – достоянье всех. А я вовсе не стремлюсь себя и других пугать ужасом. Просто навеял легкую тоску слякотный зимний день. А вообще-то, поверь, я человек не унылый. И если и оборачиваюсь к родным могилам, то не с безысходной грустью, и уж вовсе не с мазохистским сладострастием. Может быть именно там источник моего постоянного оптимизма. Ведь, где беда, там и восторг. Это уж не я выдумал. Погодите, дух переведу и постараюсь сказать что-то более радостное.
Должен признать, что фантазия у меня не бог весть какая. Никогда не умел написать о других. Наверно все ж не из равнодушия, а оттого что чем дольше живу, тем меньше вижу отличья себя от других. Может, хотел бы уединиться в какой-нибудь башне из слоновой иль человечьей кости, но ко мне приходят чужие сны. И как они похожи на мои собственные. Так что пишу о себе, а выходит – о многих. Попытался б о многих, вышло б о себе. Но вот наплодил я немало персонажей, и теперь задумался – какой из них наибольше я. Все они мерцают, подмигивают, и не выдают себя, то есть меня. Может, из них больше я именно те, что выписаны с большим напряжением, а не с большей подробностью. Скорей уклончивые, чем внешне достоверные. А тот самый, который вовсе недостоверен и к тому ж словно сочится тревогой, вот тот и подлинней всех. Вглядеться в смерть и в себя самого столь же, должно быть, трудно, как впрямую взглянуть на солнечный диск. В подлиннейшее, думаю, стоит вглядываться через перевернутый бинокль, когда ближнее отдаляется, только так делаясь доступным взгляду. Впрочем, с годами развивается дальнозоркость. Я вот недавно обновил первые в своей жизни очки. Теперь меня родное и ближайшее меньше пугает, оно расплывается, его и не разглядишь. Теперь не чураешься ближнего, зато совсем рядом кажутся родные могилы. Проходит вечный испуг перед прошлым. Будущего я, кажется, никогда не страшился, – ведь вечный оптимист. Разве что мучило навязчивое опасение, что прошлое вдруг да окажется впереди.
Скажете, бред? Покопайтесь в себе, не отыщете ль подобного страха? Очень даже запросто: ось времени, – неважно ось или оглобля, – в наше мутное время так раздергана во все стороны, к тому ж стала непряма от тесноты событий, что пойди разберись, где оно, будущее, где прошлое. Великое событие, – а наше время стало грешить величием, – изменяет прошлое. Так уж и не разберешься, откуда грозит беда. Неспроста я стал все чаще вспоминать о своем нелепом детском страхе вдруг проснуться в младенческом возрасте, обнаружив, что все свершившееся до сих пор лишь морок, притом, что свершилось-то с гулькин нос. Вот, скажите, где исток этого страха? Ну конечно, в ту пору не было нужды стирать моей безгрешной детской жизни, начав ее заново. Но откуда ж столь настойчивый страх – боязнь навек запутаться в детстве? устремиться ль быстрее в объятия нашей гордой подруги? А не детски ли наивный протест против законов времени, предощущение своего с ними постоянного несогласия. Тут я не стану утверждать, что конфликт со временем присущ любому. Возможно, я несколько отличен от большинства, но притом встречал немало людей, конфликт которых со временем еще драматичней. Имею в виду, не с эпохой, а с длением. Но вот страх перед тенями прошлого, это, скажете, тоже удел немногих? Вам разве не мерещатся шорохи за спиной? Мне теперь уже нет. Даже и несбывшееся в ночных сновидениях предстает не свирепым, а мирным, вызывает не тоску, а лишь тихую грусть. Желаю и вам примириться с несбывшимся. Только неизбывен тревожный вопрос. Задам его в следующем абзаце.
Так вот: там, за гранью граней, отступится ли от нас несбывшееся? Откроется ли нам вновь виртуальный мир, или, наоборот, нас ожидает долгожданная определенность? Куда подеваются и где упокоятся все помыслы и стремления? А может быть, адские муки, и есть запечатленная тоска по несбывшемуся? А, может быть, там, за гранью граней, и ожидает нас бугорок, откуда видать все прошлое, которое разветвляясь сучковатой дельтой впадает в молчаливые моря. А нам держать ответ за каждую протоку, и совершенный грех может потеряться среди возможных вин. Ну вот, пообещал сказать о более радостном, а вновь про грехи и вины. Попробую дальше, может, пойдет веселее. Сохраним на это надежду, случайно оставшийся со мной читатель.
Ладно, бог с ним, с виртуалом. Постараюсь отыскать то настоящее, что было в моей жизни, казалось, состоящей целиком из опасений, фантазий и несбывшихся надежд. Да если б еще из собственных, так в большинстве из чужих и приблудных. Если его искать, то, пожалуй, не в себе самом, а в других, но тех, кого ближе нет. В родных душах, родных людях, которые познакомили тебя с миром, и так и унесли с собой глубокие тайны твоей изначальной жизни. Не их ли фантазиями и снами мы теперь живем. Родные мне люди все уже умерли один за другим. Собственно, о них то я и хотел рассказать, а не просто разматывать свои мрачные иль оптимистичные виденья. Да эти вот родные люди и так растворены во всем, что я написал или напишу, но никогда у меня не хватало мужество в них вглядеться, также, как в самою смерть или солнечный диск. Даже, когда они были еще живы, я почти не вглядывался в их лица, избегал взглянуть в глаза, опасаясь увидеть там обнаженную истину. Лучше уж было предполагать в их взгляде одну лишь любовь ко мне.
Наверно, потому я почти и не помню их облика, он теперь подменен старыми фотографиями. Да нет, не стоило труда и вглядываться. Зачем, если родные люди для нас – изначальная среда обитания. Пожалуй, больше чем мир, который мы и увидели-то их глазами, и по детской наивности сочли его образ совершеннейшим, не сообразив, что приобщаемся к чужой иллюзии бытия. Могу ль я себя упрекнуть, что, прообраз мира, родные люди, сами казались мне вечными, как боги, и надолго заслонили Бога Вечного? Да и сколь привлекательными были те иллюзии бытия, как хотелось им довериться до конца и навсегда поверить. Никогда в жизни нам больше не дано отразиться в столь приукрашивавшем зеркале. Наши собственные фантазии были скорей жесткими, агрессивными и полными опасений. А в мире созданном любовью родных душ хотелось жить вечно. Они обманули нас? Жизнь оказалась не бесконечной? Но, вспомним, разве нас кто-то в уверял в обратном? Это мы сами вообразили, учуяв радостное приятие нас, чрезмерное для единого, пусть и длительного мига. Вспомним, когда мы узнали, что вырастем, а не останемся навсегда младенцами? А, узнав, огорчились ли? Я – обрадовался, а следовало бы опечалиться. Я полагал, что, вырастая, останусь прежним, и уж наверняка в лоне бесконечной любви близких. И я предполагал вечность ролей – родители так навсегда и останутся в своем зрелом возрасте, бабушка с дедушкой – навсегда стариками. А что же я сам? Дай мне волю, так и двигался бы по возрастам, навсегда оставаясь для них младенцем. Существует мнение, что мы уже чуть не от роду логичны. Но тут логика мне отказывала. Как много раз и потом. Погодите, переведу дыханье и постараюсь взглянуть в лицо родным душам.
День 2
28 января, понедельник
Тяжелый день – понедельник, потому продолжу грустную тему. Действительно, взрослые вовсе не сулили нам вечной жизни. Неизбежность смерти я угадал по их недомолвкам, но убедительней для меня было неподвластное человеку коловращение времен года, когда вслед за смертью наступало новое рождение. Я так и приучился понимать упадок, как предвестье расцвета. Родные не подтвердили мою утешительную гипотезу, но и не опровергли, как-то стыдливо отворачивались, печально улыбались. Конечно, им самим эта тема была тяжела. Затем, как и вы наверняка, я связывал упование на вечную жизнь с научно-техническим прогрессом, с чем-то вроде эликсира бессмертия – мечты алхимиков. Благо, мое детство выпало на эпоху технических чудес и восторженной веры в науку.
И все ж смерть со своей таинственной полуулыбкой всегда стояла со мной рядом. Должно быть, ее близость, неосознанная, но постоянная память о смерти, разрешалась в моих внезапных необъяснимых испугах и порывах чрезмерной жалостливости. Страх бывал связан с будто б отмеченными смертью местами – разором, разрухой. Но, бывало, и просто невнятицы, неприменимости места и его необжитости. Ведь заповедные места, отмеченные смертью, они и всегда вне жизни, и жизнью неприменимы. То, что не охвачено жизнью, и есть дол смерти. Так я не то, чтобы полагал, но ощущал, а в общем-то был веселым ребенком. Подчас даже бесстыдно радостным, – сколько было жизни вокруг, а смерть дремала по окраинам, пока что не в силе и власти. А потом ведь вышло как? То, что мне чудилось смертью, оказалось жизнью, а казавшееся сильным и жизнетворным – обреченным истлеть. Подобным образом ошибаться присуще не одним только младенцам. А что касается смены жизни и смерти, то сколько уж раз мне доводилось умирать и вновь рождаться, и не перечесть. Как тут не стать оптимистом? На этом слове переведу дыханье, и дальше скажу о родных душах.
Так вот – родились ли мы в жизнь, жесткую и равнодушную, или в любовно распахнутый тебе мир, сотворенный родными душами? Родные души – первый пейзаж мира, где все одушевлено и все для тебя. Но они также и навязанное, сладко-горькая пелена иллюзий, сквозь которую трудно пробиться к жизненной трезвости. Но стремился ли я к ней, скажи, стремился ли к ней ты, мой случайный читатель? Я б и всю жизнь с радостью прожил в уютной детской пеленке, если б не ушли одна за другой в небо родные души. А не подпертый другими, не разделенный с любящей душой, мир становится жесток и хрупок, крошится об жизнь, становится тем самым разором – облупленной стенной штукатурки, обнажающей деревянные перекрестия, что вечный мой кошмар. Отыщи и в своих снах это видение, случайный читатель. А я еще раз напомню известное, что не разделенный ни с кем миф, уж вовсе и не миф, а натужная фантазия, нетрезвость. Сколь он ни был бы изящен, это не возвышение, а смущенье духа. Скажи, случайный читатель, не потому ль я нагромождаю ворох слов, что страшусь заговорить о главном? О тех, для кого моя история изначальней и продленней, чем для меня самого.
Ну что ж, пора вторгнуться туда, где заповедно. Итак, первым живым существом, с которым я повстречался в мире, была моя Мама. Наверняка, стоило б именно с нее начать воспоминание о самых близких. Но могу ли я начать с нее, если она – узел всех моих чувств и страстей? Иногда мне кажется, что она больше я, чем я сам. Когда она умерла из меня словно вырвали клок, и оставили жить остальное. Наверно и вовсе нельзя так любить человека, что-то в этом чуется богоборческое. Прошло уже едва ни три десятка лет, больше половины прожитой жизни, а я и теперь Маму вспоминаю с мукой. Да зачем вспоминать, если она и есть я, дорогая тень обитает во мне, а не рядом. Лучше начну подряд, с верхушки лестницы поколений. Но это завтра – дам себе передышку, к тому ж призывает жизненная суета.
День 3
29 января, вторник
Вторник – день полегче, хотя погода все равно дрянь, и настроение подстать. Но, надеюсь развеется печаль, когда заговорю о самых родных. Заранее предполагаю, что это будет ворох чувств взамен связного рассказа. Так оно и честнее – тут своя связь, свои прилеганья концов к началам. Не будет и россыпи рассказов – моя душевная жизнь не членится на эпизоды, все слитно, все ручьи стремятся к морю. Один венценосный мудрец во время оно размышлял, от кого из родных унаследовал свои замечательные свойства. У меня тоже было вовсе неплохое наследство, но, вопрос, как я им распорядился. Не стану утверждать, что совсем уж дурно, но все ж не рачительно. Если считать родных составом моей личности, то Бабушка – телесное, Мама – душевное, Отец – умственное, Дедушка – духовное. С него я и начну, с Дедушки, папиного отца.
Сам Отец, с малолетства подавлявший нежность своей натуры, да и вообще всю жизнь изображавший презрение к тонким чувствам, относился к нему с острейшей, пронзительной жалостью. В моей памяти о Дедушке тоже звучит эта жалостливая нота, но все ж она светла, то есть память. А что до жалостливости, то в детстве она пробуждалась у меня легко, и не только к людям, но и брошенным, ненужным предметам. Я с ней боролся, как с какой-то помехой жизни. Я рад, что ее победил. Вряд ли оно было добрым и здоровым качеством, это бессильное, лишь растравляющее душу чувство. Разве что, победа оказалась слишком полной, до совершенного, подчас, бесчувствия, то есть сочувствия чисто умственного, налагающего ответственность – лишь бледной тени слезливой детской эмоции.
За что ж мы, собственно, жалели Деда? В нем можно было предположить хрупкость, но это скорей была хрупкость повадки. На самом деле он был тверд, хотя и не жесток. Его хотелось пригреть и защитить, но вовсе не мы с Отцом, а он был нам защитой. Дедушка был неисчерпаемо тверд в убеждениях и правилах. Он и вообще казался неисчерпаемым и неизменным, как вечность. Он и сейчас для меня не исчерпан. Чую иногда его упасающую силу, хотя расстался с Дедушкой, когда мое сознание было еще младенцем. Я потерял его в четыре года, но, может быть, оттого он так глубоко и пророс в мою душу. Но в чем же причина пронзительной жалости Отца и моей жалостливой грусти? Дед отнюдь не был неудачником – счастлив в семье, и его каким-то невероятным образом миновали все трагедии века, хотя ему случалось оказываться в самом котле драматичнейших событий. Множество обязательств, добровольно на себя возложенных, Дед нес ненатужно, со всем смирением высокой души. Главным для Деда была семья, но еще и то сокровенное, что я пока не разгадал, и вряд ли разгадаю. Однако волен предполагать. Возможно, та же самая семья, но отраженная в горнем, ее возвышенный мистический образ, напитанный священным духом, как библейские перечни предков. Когда наша семья, казалось, была обречена на гибель, Дед говорил с уверенностью, точнее с верой: «Родится внук, и все будет хорошо». Он знал уже имя. Но почему не другое? Не в честь ли маленькой площади, над которой нависал наш ложноклассический дом? Рассказывая мне о дедовском пророчестве, Отец добавлял с усмешкой: «Через полмесяца умер Сталин». Усмешка, впрочем, не выражала недоверия. «Тебя он носил торжественно, как тору», – добавлял Отец.
Что ж, не так оригинально. Дедушка вовсе не был оригинален, он был исконен. Семя, род, пронизывающий историю, врастая в вечное духа, метафизическая преемственность телесная и духовная – вот что, возможно, и было его тайной молитвой. Недаром ведь он, Самуил, назвал своего сына Давидом. Мое место в ряду столь глубоко переживаемой Дедом преемственности возвышало меня с рождения, которое оказывалось вовсе не случайным. Нет, я, разумеется, не воображал, что послужил причиной смерти тирана, но все ж она становилась требованием моей судьбы.
Доброта Деды была наилучшей средой моего детства. И она была надежна, метафизична в своей неисчерпаемости, ибо, как и все в нем, не грозила растратой. Другие ведь тоже были ко мне добры, но их доброта имела придел, – у каждого свои цели, свои заботы. Для Деда я был, – и это ощущал безошибочным детским чувством, – единственной целью и заботой, как прежде мой Отец. Да если б и не единственной, неисчерпаемость не способна уменьшиться от разделения. Мне кажется, что я уже ощущал Дедушку, когда был совсем мал и неразделен с миром. Еще не понимая родства, я чувствовал исходящие от него теплые воздушные токи – прообраз душевного тепла. Дед был для меня словно мифологический бог, который и лицо, и воздух. Все ж для меня он остался больше средой, воздухом. Разгадать тайну его личности не удалось ни его собственному сыну, ни мне тем более, знавшего Дедушку всего четыре года. Он, как и другие родные души, ушел без прощанья, без завета. Наши с ним отношения так и остались незавершенными, то есть бессюжетны иль с вольным сюжетом, который еще в развитии. Верю, что он завершиться там, где свершаются все развязки.
Дедушка стал для меня прообразом Бога. Возможно, и заслонил его, но образ Дедушки я потом различил в проснувшемся через много лет религиозном чувстве. Тот самый, что постепенно проступал сквозь его уже небесный лик. На небесах у меня уже много лет есть свой ходатай. И он хранит любовный образ моей сущности. Как смог бы я поверить, что она дурна? Нет, конечно, и тому зарок – бесконечная любовь Деда. Мне не запомнился его взгляд, но в памяти живет образ этого взгляда, и я там отраженный. Именно не временный я, в среде вещей и событий, а вольно продленный вдаль, ввысь и в глубину. Скорее ввысь, по видимой Деду и лишь угадываемой мною вертикали. Не знаю уж, как объяснить точней, мой случайный читатель. Если и тебя любили безраздельно, ты меня поймешь. А я дух переведу и еще расскажу про Деда.
Дед упасал нас с Отцом не силой и не предостережением. Именно неизменностью нашего запечатленного им образа, с которым можно было сверять свою жизнь. И этот совершенный образ никогда не служил мне укором, а всегда надеждой. У Отца было сложней, и я об этом еще скажу. Дедушка не умел запрещать. Вокруг него для меня в детстве существовало пространство беззапретности. Бог его, странным образом, походил не на иудейского, – впрочем, много ль я знаю об иудейском Боге? – а, скорее, на христианскую Его ипостась. Притом, Дедушка не был всепрощающим. Он не запрещал и не осуждал, но огорчался. А я, с детства и по сю пору своевольный, редко огорчал Дедушку своими шалостями. Но это пока он был жив. Страшно подумать, сколько я принес ему огорчений потом своей путанной жизнью. Я ведь верю, что он видит все, так как верность его мне неизменна, именно как вечность. Он меня огорчил дважды, переживая куда больше, чем я сам. Дедушка ведь наверняка понимал бесконечность моего к нему доверия. А я после дедушкиной смерти долго еще не мог себе простить своей на него обиды, да не знаю простил ли и сейчас. Вот они, два горестных события моей детской жизни. Однажды он отнял у меня шелудивого кота и попытался отмыть его под краном от пыли и блох, – ведь врач, в конце концов. Кот вырывался, царапался и верещал. Я почти рыдал, Дедушка чуть не плакал. Я жалел кота, и, отчего-то и Дедушку тоже. До сих пор вспоминаю эту картину с дрожью. А, кстати сказать, погода за окном все такая же скверная. Нет, воспоминанье о второй обиде оставлю на завтра, так будет лучше.
День 4
30 января, среда
Вот уже и среда – горб недели. Вторая и последняя моя обида на Дедушку была еще горше и событие драматичней. В мой день рождения, годовщину того свершения, которого он ожидал с такой надеждой, Дедушка показал фокус: порвал мою фотографию, а потом ловко подменил целой. Тут уж я разрыдался всерьез, хотя не был плаксивым. Горе мое было неподдельным, ведь, как все дети и дикари полагал нерасторжимой связь фотообраза с самим собой. Дедушка, самый родной, среда моего существования, уничтожает меня. Ну и ладно, что потом я целый. Может, это уже другой я, подменный? А я, к тому же, еще совсем недавно горделиво сознал свою самость, глядясь в мутное зеркало. Тут Дедушка в первый и последний раз нечто недооценил или не понял. Быть уничтоженным его рукой, это ли не трагедия? Он явился скорее ветхозаветным, суровым Богом, хотя вовсе не хотел меня наказать, а всего лишь пошутил. Как я уже сказал, сам Дед глубже, чем я, переживал мою обиду. А я, особенно после его смерти, осознавал ее своей виной. Как и все дети, полагая смерть разлукой долгой, но не вечной, я, памятуя о разорванной фотографии, повторял в свое утешение: «Ну если и не на следующее деньрожденье, то уж через одно Дедушка обязательно придет», добавляя: «И опять покажет фокус».
Вот, можно сказать, единственная наша взаимная вина. А в общем, мы друг перед другом на редкость безвинны. Не то с остальными родными душами. Возможно, поэтому мою память о Дедушке сопровождает светлая грусть. Я считаю ее высшим состоянием духа, свойством истинно высокой личности, но, будто на смех, она редко мне дается: либо – восторг и вдохновение, либо тяжелая малоэстетичная тоска. Зато, словно в награду, я никогда не ведал настоящего уныния, – один из немногих грехов, которого избежал. И видимо, благодаря Дедушке: откуда взяться безысходности, если в небесах навек запечатлен мой очищенный от случайных черт сияющий образ?
Сейчас вдруг во мне вновь шевельнулась жалость к Деду. Все ж, откуда она? Он мог показаться беззащитным, но был защищен, и весьма надежно, – от соблазнов века своей чистотой, а от его бедствий своим мужеством. Например, угодив в белогвардейский погром, не стал прятаться, а бесстрашно ходил по городу. Впрочем, семье, которую он боготворил почти в прямом смысле, Дедушка принес свою жертву. Замечательный врач, он не любил медицину. Будь он волен, предпочел бы, наверно, гуманитарию. Но это не хлеб. Его происхождение и жизненные обстоятельства допускали два пути – медицина и юриспруденция. Второй претил ему наверняка еще больше своим неизбежным крючкотворством. Медицина предполагала служение, что согласно с дедовской натурой. Правда, волей судьбы, с которой Дед никогда не спорил, ему довелось специализироваться в венерологии, уж тем более чуждой его чистоте душевной и телесной. Подростком, я разглядывал с порочным увлечением его медицинские книги, пахнувшие пылью и развратом. На всю жизнь запомнил изъеденные язвами половые органы, плоть, расточенную похотью, приступ омерзенья к собственному телу и к женскому. А Дедушка любил свою жену нежно и чисто.
Выходило, что он избрал труднейшее для себя служенье, иль оно его избрало. Но жалость не потому. Дедушка не был беззащитным, но защищенность его не знала препон. Он напоминал крепость, лишенную стен, упасаемую лишь мужеством гарнизона. Все ветры мира проскваживали его ранимую душу, но зло исчезало в ней безвозвратно, – не возвращалось ответной злобой и раздражением, становясь светлой грустью. Столь возвышенного дедушкиного свойства я, увы, не унаследовал. Должно быть, мы с Отцом вовсе и не его жалели, а себя, предчувствуя разлуку. И Дедушка, наверно, грустил о том же. Переживанье этой первой смерти дорогого мне человека, – именно переживание, хотя я был совсем мал, – обернулось той самой, светлой и возвышенной печалью, которая мне потом так редко давалась. Я не видел Деда мертвым, и лишь недавно узнал, что он, столь во всем деликатный и необременительный, даже умереть пытавшийся незаметно, после смерти доставил множество макабрических хлопот с почти криминальной доставкой его тела с дачи в Москву. Что за гнусная усмешка жизни, верней смерти?
Последний его день я хорошо запомнил. Мы ходили на станцию встречать Бабушку. Не встретили. Дед был, каким обычно. После обеда ему вдруг стало плохо. Тут, помню, я увидел в окно приближающуюся к дому Бабушку. Потом меня увели ночевать к соседям, к моему дачному другу, умершему, кстати, в пятнадцать, тоже оставив по себе грусть. Но тогда он был не менее жив, чем я, и проснувшись поутру, мы увлеченно бились подушками. Я не предчувствовал беды, и наутро не почуял, что она стряслась. В этом я себя как раз не виню, – пред лицом смерти гаснут иногда пророческие детские ощущения. Лишь потом, постепенно я почувствовал, какой ущерб среде моей жизни нанесла смерть Дедушки. Доскажу завтра. Вновь призывает жизненная суета, но теперь, возможно, кстати.