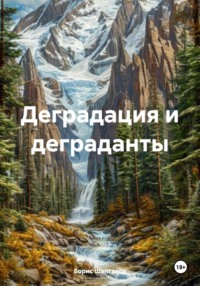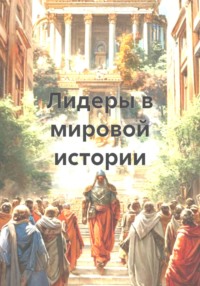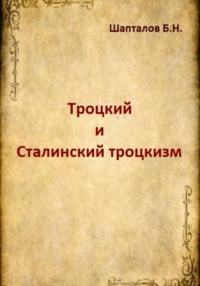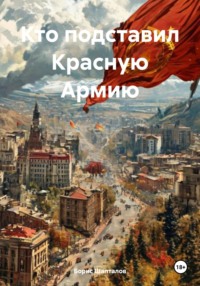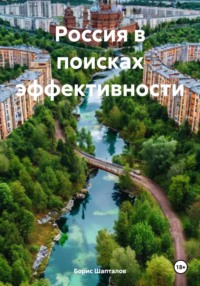Полная версия
Заметки о литературе, и не только
Да, среди христиан (даже настоящих, а не язычествующих во Христе) есть и те, и другие. Это было понятно не только живописцу Иванову. Потом кто только не пытался осмыслить тему «богочеловека» – от Ге до Нестерова, от Достоевского до Мережковского.
Иванов решил обойтись без чуда и чудес, и проиграл. Религия не может без первого, а фарисейство – без второго, как компот без сухофруктов.
Иванов, получается, потерпел неудачу? Нет, его картина признана шедевром и стала классикой. Значит, победил?
Но ведь сказано же – засушил. И все опять по кругу… Как в жизни.
Религия в литературном процессе
Функция литературы – додумывать реальность, а религии? Домысливать?
В конце XIX века в России родилось течение обновленцев, ставивших себе целью реформировать христианство. Они попытались синтезировать религию и литературу. Наряду с Владимиром Соловьевым, этой работе отдались писатели Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Однако у этой пары ничего не получилось. Гора родила мышь. Супруги не оставили после себя детей, и это почти символично.
Почему Мережковскому не дались его усилия, несмотря на интересные романы и критические статьи, из которых черпали соображения немало интеллектуалов досоветской поры? Может потому, что религия на деле «не про то»? Не про совершенствование личности человека и общества, как мечталось Мережковским, Бердяеву и другим обновленцам? Но как же так, ведь все религии утверждают о своем воспитательном значении. И это правда. Как правдой является и то, что при ближайшем рассмотрении выясняется, что речь идет о процессе воцерковления, то есть принятия определенной идеологической доктрины. И получается, что церковь – земной инструмент, к тому же исторически преходящий. Но в земных условиях оно дает церкви огромное преимущество – поддержку государства в своей экспансии и обогащении. Цель заменяется средством и стяжатели (иосифляне и паписты) побеждают нестяжателей (Нил Сорский на Руси и ордена нищенствующих в католицизме). Литература на процесс обмирщения и политическую идеологичность церкви отвечала присущим ей способом – раблезианским «Пантагрюэлем», вольтеровской «Орлеанской девственницей», антицерковной «Легендой об инквизиторе», атеистическими повестями Тендрякова…
Откуда столь острая реакция? Только ли потому, что служители церкви оказались падки на материальные блага, удивительным образом забывая о своих проповедях про мирскую тщету на фоне вечности души и радостей загробной жизни? Нет, конечно. Воцерковление есть способ примирения со скудным пониманием жизни, ибо данный кусочек бытия объявляет единственно верным и достойным осознания. Его отражением стало атеистическое «единственно верное» учение марксизма-ленинизма в форме государственной идеологии. Бытие же каждый раз оказывалось много шире любой конфессиональной идеологии – хоть церковной, хоть светской.
Хорошая литература всегда аналитична, только аналитика в ней оформляется в виде художественных образов. Потому она под действием внутренних закономерностей перешла от сатирической критики к осмыслению глобального бытийного противоречия. В русской литературе к ней с разных сторон подступались Лесков и Достоевский, Толстой и Л. Андреев, Горький и Тендряков. Но возможно (хотя и спорно) вершиной на этой стезе стал «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Он смело, и прямо таки вызывающе, пошел на парадоксальное скрещивание «божественного» и «инфернального» уже в экспозиции романа, когда Воланд выступил защитником Христа! Тем самым была обозначена некая потаенная проблема, что и вызвало понятное неприятие романа священнослужителями. Роман удивительно текуч, двойственен, не сводим е единому знаменателю, что не характерно для произведений даже с отрытым финалом. Обычно позицию автора понять не трудно, а тут – сплошной туман.
В чем собственно проблема, в которой преломился роман Булгакова? Если кратно…
Религия, как духовная идеологическая система, несет в себе идеал. Идеал отталкивается от идеи. Это, вроде бы, хорошо. Но хорошо, если идея верна, а идеал не ложен, и вместе они не ведут к идеологии, обосновывающей и защищающей антигуманизм. Как это произошло с инквизицией или современным использованием ислама радикал-фашистами. Значит, нужны критерии идеи, отсекающие ложные идеалы.
Достоевский и Мережковский абсолютизировали Христа, чтобы иметь Абсолют – истину в конечной инстанции. Богочеловеческую субстанцию, от которой можно вести эстетический отсчет понимания человеческого в человеке. Но Достоевский, имевший склонность доводить свои размышления до «конечного конца», то есть до своего диалектического отрицания, не даром заявил: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины.., то мне хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Сама мысль-допущение о том, что Абсолют может оказаться не абсолютом, а частным случаем мироздания, есть ощущение многообразия и многомерности мира, который принципиально не сводим к одному единственному Абсолюту, равно как к одной религии, одной доктрине, одному философскому учению. Поэтому религиозные системы рождаются, возносятся над обществом, а затем умирают, когда перестают отвечать запросам эпохи, или эволюционируют, сохраняя внешнее подобие старому. Так по первому варианту произошло с верованиями вавилонян, египтян, эллинов, персов, ацтеков и т.д. Выжили лишь те религии, вроде индуизма, иудаизма, синтоизма, что сохранились народы их породившие, но при том они ныне сильно отличаются от первоначала. Они выжили, но это пока…
Показательно, что в мировой фантастике – хоть европейской, хоть американской, хоть японской – при описании будущего невозможно найти приметы современных религий. На космических кораблях и станциях вообще не молятся, и там нет священников! Никому в голову не пришло показать на космическом корабле икону или богослужение экипажа. В обществах фантазийного будущего нет ни христианства, ни ислама, ни любой другой современной конфессии. У фантастов не хватает фантазии представить, что современные религии выживут в просторах Вселенной!
Значит воцерковление не панацея, а компромисс. Чтоб голова не пухла от мыслей, а была ясная ясность. Пусть и на данный исторический момент… Однако такой компромисс стал не устраивать часть русской интеллигенции Нового времени, ибо предчувствие революционного апокалипсиса одних пугало, другие его желали, но хотели предуготовить новые образцы преображения человека. Можно вспомнить «богостроительство» Горького и Луначарского. Да и другие большевики-ленинцы не намного отставали от них. Только ту же задачу хотели решить без помощи «бога». Коммунисты мечтали о преобразовании общества и человеческого сознания в рамках атеизма, вместо религии предлагая новые, облагороженные, социальные отношения. Примеры – «Туманность Андромеды» Ефремова или «Полдень XXII век» Стругацких. Вышло же совершенно иное. И Мережковский смиряется с жизнью и принимает денежный грант от Муссолини и поддерживает Гитлера в его походе на СССР (правда недолго). Книжная мудрость, литературная метафизика была посрамлена практикой.
Означает ли это, что к Мережковскому или Горькому, или коммунистам надо относиться свысока, как к неудачникам? Нет, разумеется, просто нужно различать литературу как специфическую вселенную от физической Вселенной, книжный мир героев от жизни реальных людей, дух – от материи, воображение – от практики, творчество – от каждодневной борьбы за существование.
Индивид может обойтись без литературы и творчества, Личность – нет. Животный мир освобожден от страха смерти, человек – нет. Зверям не нужна вера, гуманоид живет исходя из нее (не обязательно религиозной). А дальше идут формы преобразования того, без чего нельзя человеку. Рождается искусство, религия и наука.
Кроме того, как знать, возможно, наш мир есть проекция какого-то другого. Может даже параллельной вселенной (все больше физиков приходят к выводу о возможном наличии большого числа параллельных миров). Впервые об этом догадался древнегреческий мыслитель Платон, выдвинувший философскую гипотезу о наличии мира идей и идеальных образов (образцов) материальных вещей. Но так как она не доказуема, то относится к разряду спекулятивных (в философском значении этого термина). На том человеческий разум и пребывает с тех пор, ибо любая религиозная система спекулятивна, ибо основана на недоказуемых основаниях, проверить которые возможно разве что после смерти. Вот только донести сведения с того света невозможно, как и сообщаться с другими физическими Вселенными, если таковые существуют. Остается фантастика, как средство представить и осмыслить возможное, пусть даже в представлении современной физики, неосуществимое, как путешествие во времени или прорыв в иное измерение. Человек хочет остаться Прометеем. А это уже сочетание земного и религиозного.
События глазами героя произведения
Читатель обычно доверчив к художественному тексту, особенно талантливому. И раз автор или герой повествования утверждает, что это черное, а другое белое, то так оно есть. Пример.
Повесть Г. Уэллса «Остров доктора Моро» обычно трактуется как описание заповедника бесчеловечных опытов в духе будущего доктора Менгеля – эсэсовского изувера в концлагерях. Почему закрепилась именно такая трактовка? А потому, что так изложил дело герой повествования. И ему поверили. А почему собственно?
В результате кораблекрушения Некто оказался на закрытом острове. Там ему оказали помощь – спасли жизнь, накормили, и предложили скоротать время до отбытия. Единственное условие – не шастать по острову. Но любопытство пересилило. Оказалось доктор Моро ведет гениальные эксперименты по очеловечиванию животных. Результаты, понятное дело, спорные, потому он никому о них не рассказывает, предпочитая разбираться в существе дела самому.
Кстати, а что делает доктор Моро? Не больше – не меньше, как исследует ступени эволюции человека. Это в Библии Человек создается простым действие, а в реальности он выделился из животного мира маленькими шажками по пути вочеловечивания, постоянно при том конфликтуя с животном в себе, одновременно, опираясь на эти свойства, без которых ему не выжить. По сути, древний человек эволюционировал, ставя все новые и все более сложные и рискованные эксперименты над собой.
Не готовый к контактам со зверолюдьми герой, с говорящей фамилией Прендик, рушит исследования. Все заканчивается гибелью Моро и его дела. Человечеству не дано узнать его уникальную методику. И что делает герой, дабы оправдаться? Клевещет на Моро и его помощника! Дело сделано. Единственный свидетель имеет полное право трактовать события так, как ему заблагорассудится в духе известной поговорки: «Врет как свидетель». С тех пор все экранизации толкуют повесть в одном ключе – доктор Моро-Менгеле ставит бесчеловечные опыты…
Но были книги, которым читатель не поверил. Такое случилось с романом «Бесы» Ф. Достоевского. Почему?
Есть такой поджанр – пасквиль. Это недружественная пародия, выставляющая человека в неприглядном свете. Известного пародиста Александра Иванова обвиняли в том, что многие его пародии на стихи поэтов носят характер пасквиля. Таковы и «Бесы». Этот роман – огромный по масштабу шарж, определяемый ренегатством писателя. Достоевский в нем свел счеты с увлечениями молодости. Обычное, впрочем, дело. Подмечено ведь: революционер в молодости – консерватор в старости. И если Тургенев, которой в зрелые годы был в ладах со своей молодостью, ибо не менял убеждений следуя за эпохой, облагораживает «нигилиста» в образе Базарова, то Достоевский низводит данный тип личности до уровня фанфарона Петра Верховенского. Федор Михайлович как бы говорит публике: «Вот от кого я ушел-с!» И повесил на «бесенят» все преступления, которые смог придумать, и тем оправдаться. Особенно оттоптался на Ставрогине. (Достоевский и Ивану Карамазову затем отомстил, за ту правду, что тот сказал о церкви в «Легенде…». А в «Бесах» – Тургеневу в образе Кармазинова). Но общественность того времени по иному смотрела на борцов с режимом. Свидетельство тому оправдание судом присяжных, стрелявшую в петербургского градоначальника, Веру Засулич. Тогдашний читатель в персонажей «Бесов» не поверил, и главный грех Ставрогина повесил на самого Достоевского.
Да и что такое «бес»? Бес – это черт отнюдь не высшего разряда. Отсюда производное слово «беситься», означающее, в сущности, поверхностное душевное и интеллектуальное состояние. Оттого появилось другое производное понятие – «перебеситься» (и успокоиться). Бесятся и персонажи в романном городе Достоевского. Перебесившись, многие из них наверняка станут благонамеренными подданными. Как сам Достоевский. И если Базаров мог стать революционером, то Петя Верховенский им не станет. Не такие создавали «Народную волю» и РСДРП. Туда, если попадали персонажи из кружка Верховенского, то быстро покидали революционные организации. Уж слишком сложное и самоотверженное то было дело – вести подпольную работу, арестовываться, идти в ссылку и бежать оттуда. После чего – опять по новой… Другое дело, что «бесы» затем массой всплывут в Гражданскую войну. Но такие войны всегда питательная среда для подлецов всех видов и разновидностей.
Если уж пользоваться определениями «темных сил», то среди революционеров можно скорее найти не бесов, а демонов. А демон – это другой уровень инфернальной силы. Той, что, желая «зла» (разрушения), творит «добро». И – наоборот. Как это было в России-СССР в 1917-30-е годы. Для описания личностей такого уровня роман-шарж не подходит. Мелко… А Петя Верховенский хочет исключительно зла. Ну, кто так работает с массами? Не политтехнологично. Учитесь у Воланда… (или Сталина).
Достоевский не просто пристрастен, а крайне пристрастен ко многим своим героям, прежде всего к своим идеологическим противникам, заставляя их делать то, что реальные люди не сделали бы. Но автор – хозяин-барин.
И тут стоит заступиться за Достоевского. Он все-таки гений, а не простой публицист. Угадал он и «бесов». Они вскоре явились. Это великий провокатор Евно Азеф, а следом явится и другие (Малиновский и проч.).
Чтобы уйти от пристрастности некоторые писатели мудро ввели нескольких повествователей, рассказывавших одну историю со своих «колоколен». Наиболее известные произведения в этом ряду – «Женщина в белом» У. Коллинза и «В чаще» Р. Акутагавы, более известного по фильму А. Куросавы «Расемон». При такой «стереоскопии» читатель понимает (или должен понять), насколько сложен мир, чтобы свести его к одному знаменателю.
Вопрос-утверждение Стругацких
В 1964 году была опубликована удивительная повесть братьев Стругацких под провокативным названием «Трудно быть богом». В зависимости от подхода к действиям и деяниям героев произведения после названия одинаково можно было ставить утвердительную точку или знак вопроса.
В повести рассказывалось о деятельности группы наблюдателей-землян за жизнью средневекового по земным меркам общества планеты Арканар. Удивительным был не сюжет, а позиция авторов. Рассказ о землянах, попавших на другую планету, был не нов. В 1920-е годы увидела свет повесть Алексея Толстого «Аэлита». Советские люди опадают на Марс, где застают монархическое государство и… организуют там восстание марсианских пролетариев. Вот это по-нашему, по боевому! А у Стругацких земляне занимают пассивную позицию сторонних наблюдателей. Причем то были не земляне вообще, а представители коммунистического социума, считай те же советские люди. Однако перед ними стоит задача не вмешиваться в местные дела, а только фиксировать события, посылая этнографический материал на Землю. Ну разве что спасать отдельных ученых (элиту!) во имя будущего возможного прогресса.
Непонятно, почему авторов не обвинили в классовой пассивности? Публикацию такого произведения, наверное, можно объяснить пресловутой «оттепелью». Или недосмотром цензурных органов. Ведь что получается. Бог с ним Арканаром и тамошними «богами». Но в 1960-е годы начался распад колониальной системы. Десятки цивилизованно отсталых народов образовали свои государства. Советское руководство охотно откликнулось на сей процесс, послав им на помощь тысячи «прогрессоров». И вдруг появляется повесть со странным, внеклассовым и неидеологическим подходом. Мол, надо сидеть тихо и присматриваться к аборигенам… Повод придраться критикам был налицо. Но повесть вышла в политическое межсезонье. И правда, трудно быть «богами» – за всем не уследишь. Ну, а когда птичка вылетела, поздно было ловить прочирикавшего воробья. Пришлось сделать вид, что это про Арканар. Другую планету. Читатели не возражали, резонно не пытаясь снизить отличную фантастику до книжки на злобу дня.
Итак, группе землян предложили на чужой планете не лезть в чужие дела. И чтобы не повлиять на исторический процесс, замаскироваться, слившись… Тут Стругацкие сделали еще «еретический» по тем временам шаг… Слиться не с массой трудящихся, а с эксплуататорским классом! А ведь бытие определяет сознание… И авторы оное слегка обозначили. Но лезть, понятно, глубоко не стали. Их занимала иная задача: как поведут себя гуманисты в негуманном обществе?
Сейчас можно сформулировать иначе, чем в те атеистические времена. Как вести себя Христу или Будде с их сугубо гуманно-милосердной философией в их немилосердное время? Как повели они – мы знаем. Один уединился и отрешился от земного, призвав последовать его примеру (путь недеяния), другой смиренно пожертвовал собой в расчете на посмертное возданяние. Но оба подали пример, который подхватили миллионы… А как быть землянам? Отрешиться? Нет, им надо исследовать общество. Жертвовать собой? Тоже нет. Вести пропаганду гуманизма под видом бродячих философов? Но тем будет нарушена чистота эксперимента. На Земле твердо решили: пусть арканарцы развиваются сами, а мы посмотрим, что выйдет. И это было логично. Если Арканар зайдет в тупик, то затем можно будет прийти на помощь и подтолкнуть прогресс. Но сначала «детям» надо дать учиться ходить самим.
Логика есть логика, и замаскированные земляне с ней были согласны, раз взялись исполнить миссию. Но жизнь не сводима к логике. Кроме нее есть другие вещи: как то: любовь к арканарской женщине и желание ее спасти, как сострадание к гибнущим, как ненависть у палачам и прочие «нелогичные» эмоции. Что поделаешь: кроме рацио есть сердце. Последнее берет верх и дон Румата выходит за рамки должностных инструкций…
Но это пока данные задачки. Вводные данные. А вопрос-то в чем?
Многие идут по ложной, но заманчивой дорожке, – начинают сопоставлять советское общество с арканарским и делать выводы о сходстве тоталитарных режимов и тому подобное. Следует отметить, что Стругацкие, во-первых, не были диссидентами, и в то время еще не разочаровались в коммунистической идее, а во-вторых, не являлись лобовыми писателями-разоблачителями. Даже сатира «Понедельника…» или «Тройки» шла дальше фельетонов журнала «Крокодил». Это все равно, что в романах Ильфа и Петрова видеть исключительно разоблачение нэпманов и «бывших». Если б дело обстояло так, то эти книги стали бы достояние истории литературы и лишились читательского внимания. Но Стругацкие тем интересны, что были способны задавать вопросы «о смысле жизни».
Итак, деяние или недеяние? Вмешиваться Богу в дела Гитлера или дать народам разобраться самим? И шире: остановить Зло или дать людям месить грязь самим в надежде, что те со временем выберутся из нее?…
А можно снизить планку и спросить: ну и что достигли советские и американские прогрессоры, неся народом Африки или Афганистану свои представления о правильной жизни?…
Жизнь как преступление и наказание
«Тварь я дрожащая или право имею?» – задался наполеоновским вопросом Родион Раскольников, и после совершения преступления доказывал, что точно не Наполеон и ближе все же к «твари дрожащей». Наконец, так истомился собой, что согласился с доводами Сонечки и добровольно пошел на каторгу. На каторге что? Не нужно больше задаваться глобальными вопросами насчет себя и можно подчиниться чужой воле, коя в дальнейшем будет определять его жизнь. Хорошо-с! Он бы и Сонечке целиком подчинился, да она была слишком добрая, чтобы полностью подчинить молодого человека.
Бывают такие люди, что не могут распорядиться собой. Ум, вроде бы, есть, способности тоже. Не урод, может нравиться противоположному полу. А в целом – пусто. Ни к работе не приспособлен, ни к карьере, ни семью завести… Ничего. Только куча мыслей роятся по поводу мироздания. В таком случае самое милое дело, чтобы кто-то взял его в оборот. Например, Армия. Сначала такой тяготится армейской службой, потом с годами втягивается и под конец из него получается нормальный, хоть и сильно пьющий, служака. Но Раскольникову не повезло. Никто вовремя не взял его в стальные рукавицы. И парня понесло…
В своих размышлизмах по поводу «кто право имеет», Раскольников упустил тот момент, что Наполеон не просто убивал. А делал это по необходимости, в ответ на вызов других, желавших убивать. Шла война и он предложил свои услуги в дни осады Тулона, а потом в итальянской кампании против австрийских войск, желавших подавить революцию. Позже у Наполеона появилась идея, которая росла по мере его успехов, – создание европейской федерации. А какая идея была у Раскольникова? Никакой по сути. Ради денег убивают уголовники, а не наполеоны. Потому Раскольников и запутался в трех соснах. Дошло до смешного. Заполучив деньги процентщицы, он не знал, что с ними делать. В самых простых житейских ситуациях Раскольников демонстрировал полную несостоятельность. Маменькин сынок, одним словом. Так бы и погиб, не подвернись новая «маменька» в лице Сони Мармеладовой. Она, в отличие от неумехи Раскольникова, готова была преодолевать завалы жизни, показывая великую силу духа. Не нужно доказывать сколь чуждо ей было ремесло проститутки, но ради спасения семьи она шла на все. Но не за счет других! А ведь тоже могла, к примеру, обчищать пьяных клиентов.
Достоевский вкладывал в своих главных героев многое от себя. Ведь он тоже мог стать подобием Раскольникова. Карьера ему не светила, военный инженер из него никакой (в качестве дипломного проекта составил план форта без ворот – ни войти, ни выйти! Потом этот принцип он перенес в ряд своих романов…). В дальнейшем спустил состояние папеньки. Одно время попал в узду сильной женщины – Аполлинарии Сусловой. Но та затем его отвергла. Так бы и пропал господин Достоевский, если б не талант писателя. И свою житейскую неумелость, свой ворох «раскольнических» мыслей он сублимировал в деяния своих литературных героев. А тут и своя «Сонечка» подоспела в лице Анны Сниткиной. И жизнь наладилась. Возможно, наладилась она под руководством Сонечки и у Родиона Раскольникова, как у самого Достоевского после отбытия каторги. Поучительная, получилась, история.
На этом все – можно ставить точку? Нет, конечно. Федор Михайлович был не столь прост, чтобы написать житейско-философическую повесть про неудавшуюся жизнь. Да, Раскольникову встретилась Соня Мармеладова и повела по своему пути. А если б ему попался Петруша Верховенский? И вообще, встретилась «мать-Революция»? Раскольников-то в начале романа – готовый бомбометатель-террорист. И сколько затем таковых Раскольниковых взойдут на эшафот после убийства царских сатрапов. А затем будут работать в ЧК. И т.д. Но это потом. А тогда, в 1866 году, Достоевский описал частный случай – жизнь на переломе некоего студента, вопросившего некстати: «тварь ли он дрожащая..?» Ницшенианский вопрос до Ницше – попал в точку. И ответ затем – особенно в ХХ веке – давался самый разный. И он далеко не исчерпан и по сей день.
______
Как личность Достоевский претерпел традиционную эволюцию – от почти революционера и атеиста к верующему консерватору. Так сказать: ни он первый, ни он последний. А вот писательство получилось в обратном порядке – от традиционалиста к новатору, от социального бытописателя – к религиозной и идейной амбивалентности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.