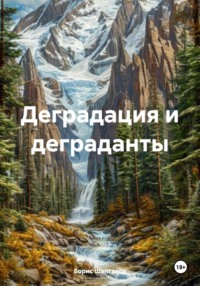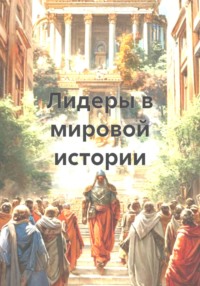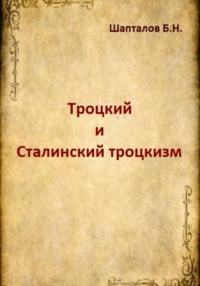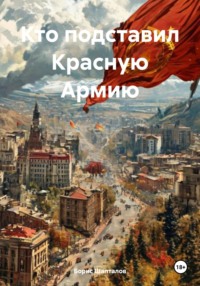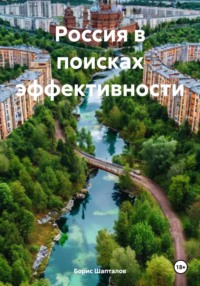Полная версия
Заметки о литературе, и не только
Ближайшее будущее было за Базаровыми. Но это – следующее поколение (через 20 лет). А пока в повести мы видим прекрасную багряную осень уходящей (дворянской) натуры.
Прощай, Печорин. Прощай, Лермонтов. Они не оставили после себя детей. И это символично. Но они оставили литературу. Печорин свой умный Журнал. Лермонтов – великолепную поэзию. Это немало. А что оставим мы – новая вариация Онегиных-Печориных? «Игру престолов»?…
Солярис на обочине
Повести «Солярис» С. Лема и «Пикник на обочине» А. и Б. Стругацких (и неразрывно связанные с ними фильмы А. Тарковского) пошли вразрез с доминировавшими при социализме представлениями о радостях встречи с инопланетным разумом. Как эти тексты дисгармонировали с «Туманностью Андромеды» И. Ефремова, вышедшей всего несколькими годами ранее!
Лем и Стругацкие сделали предположение, что ни мы их, ни они нас элементарно могут не понять из-за принципиально разного устройства жизни и мышления.
Мыслящий океан Соляриса пошел на контакт с людьми своеобразным способом. Он материализовал из памяти дорогих для членов экипажа умерших. Но оказалось, что это была «медвежья» услуга. Среди ушедших были те, кто вызывал не столько ностальгию, сколько сильные укоры совести. Да и копии не есть оригинал. В ответ на дружелюбный контакт люди ответили Солярису жестким, разрушительным излучением – «не суйся в сокровенное».
В «Пикнике…» люди столкнулись с неведомыми следами внеземного разума. Возможно, с остатками космического корабля. А может его ремонтом… Непонятно. Власти огородили территорию и запретили вход в Зону. Запрет на вынос артефактов понятен. Это все равно, что обезьяне дать гранату. Что это за штука она понять не в состоянии, а бед причинить может много. Показательно, что и сама Зона, а, вероятнее всего, бортовой компьютер, как может ограждает себя от вторжения. Зона старается максимально затруднить вылазки непрошенных визитеров, но они все равно идут и идут за «гранатами», и подрывают себя.
Непонимание того, что происходит видно по трактовке людьми «золотого шара», якобы выполняющего сокровенные желания. «Золотой шар», похоже, и есть сам бортовой компьютер с характеристиками искусственного разума. Он максимально затруднил доступ к себе с помощью противной слизи и кровавой «мясорубки» как последнего средства защиты, но разве сталкеров остановишь! Некоторым удавалось достичь места его обитания и попросить помощи. И Разум помогал. Но что из этого выходило?
Один сталкер решил попросить здоровья для своего ребенка. А когда вернулся из Зоны, узнал, что разбогател. После чего покончил с собой. Он посчитал, что это его истинное и позорное желание. На деле же Разум не мог дать здоровье особи с иной биологической системой, и он дал то, что мог – напечатал кучу денег. Разум исходил из того, что проситель использует их для лечения ребенка в лучших клиниках мира, а сталкер не понял и наложил на себя руки.
А в фильме Тарковского дочь Сталкера – инвалид. Зато обладает паранормальными способностями. Так какие желания загадывал Сталкер и что понял из его хотелок Разум? Наверное, попросил чуда. И его получил. Но способности дочери Сталкера не обрадовали. Так что: бойся Человек своих желаний? Люди приперлись на планету Солярис, нашли там разумную жизнь, а что делать с контактом не знают. То ли помахать с орбиты ручкой, то ли уничтожить, чтоб не зазнавался.
Да что там внеземной разум, когда люди, народы, государства часто не могут понять друг друга, всем способам коммуникаций нередко отдавая предпочтение войне, как кардинальному средству решения проблемы. Так же как на Солярисе… Ладно, что ни Солярис, ни Зона не пошли на подобные шаги. Гуманоиды! Пусть ни капельки не похожие на людей. А может благодаря тому, что не похожи…
Интересны интерпретации повести критиками, как показатель того, что могут понять люди о себе подобных (в данном случае о творениях писателей). Полный разнобой! Например, один известный писатель посчитал Зону метафорой Советского Союза, а «мясорубку» – репрессивной политикой властей. У него получилось, что Стругацкие сочинили нечто вроде агитки с фигой в кармане. Хорошо, что не этот Писатель пошел в Зону, а то она наградила б его… паранормальным явлением.
Тарковский же пошел в Зону вместе со Сталкером, Писателем и Ученым. И вернулся другим. Надломленным. Новой порции вдохновения он не получил. А дозу радиации – точно. И через несколько лет умер от рака. И ведь знал, чувствовал, что не надо ходить к «золотому шару». Еще по «Солярису» все понял. Но без страсти выйти за флажки, войти в запретное, не стал бы великим художником.
Лем, Стругацкие и Тарковский задолго до признания кризиса гуманизма уловили, что с этим гуманизмом что-то в непорядке и технический прогресс ситуацию не изменит. Червоточина находится внутри самого Человека, и поход в Зону за чудом не поможет. Чудеса будут, но не Чудо Преображения.
Пролетая над…, или художественная победа над здравым смыслом
Уж в который раз встречаю хвалебный отзыв о фильме «Пролетая над гнездом кукушки». И каждый раз вельми удивляюсь тому обстоятельству. Не высокой оценки художественным достоинствам кинокартины тут полный порядок, а ее содержательной части.
Пока не прочитал книгу Кизи, был уверен, что она написала пациентом психбольницы, отомстившим персоналу. И сильно был удивлен тем, что автор, вроде бы, сам был санитаром. Тогда непонятна та чепухенция, что он вложил в повесть о скорбном доме.
В студенческие годы мне сподобилось поработать санитаром в знаменитой Казанской психбольнице и потому порядки, как и контингент этих заведений, знаю не с чужих слов.
Книгу давно не перечитывал, и ныне у меня закралось подозрение – не тест ли это на здравый смысл? Или его отсутствие… Уж больно провокативен сюжет.
В психбольницу поступает бывалый уголовник, косящий под психбольного, чтобы не попасть в тюрьму. Там он почувствовал себя как в раю. Во-первых, кругом тихие, стукнутые пациенты, среди которых он почувствовал себя «бугром в яме». А охраняли не сердитые тюремщики, а вежливые санитары. Лишь медсестра портила настроение своими придирками, но на фоне тюремных распорядков (см. американские фильмы о нравах тюрем), это, конечно, сущая мелочь. Другой бы, по умнее, засел втихую и радовался, ведь нужно лишь глотать таблетки (и то не обязательно, можно сымитировать), а в остальное время спать, есть, играть в настольные игры, трепаться с придурками об их придурковатой жизни. Лепота. Но это если уголовник умный. Однако пришелец – дурак. Только не по психике, а по жизни. Потому постоянно попадает в тюрягу по мелочам – за драки в барах и прочее. И в палате, осмотревшись, он начал вести себя как в придорожном баре – конфликтовать по пустякам и подбивать к бунту других. Потому что он не просто дурак, а идейный (за что его, собственно, и полюбил западный либералитет).
Авторы фильма усиленно делают вид, что порядки в больнице «тоталитарные». Меня же удивил тамошний либерализм. Вожак легко вывел группу пациентов за пределы больницы, и они весело провели время на море. Правда, у одного начался припадок и он чуть не погиб, но зато беглецы вкусили воздух свободы. А потом Вожак сумел протащить в больницу девочек и обильную выпивку. И дело, наконец-то, закончилось летальным исходом. Но виноватой в этом представили медсестру. Видите ли, эта эсэсовка возмутилась нарушением порядка! М-да, представить, чтобы в Казанскую психбольницу пронесли спиртное и устроили с больными сабантуй, я не могу. А вот, что этого Вожака приструнили бы – наверняка. Ах ну да, у нас же тоталитарная страна.
Как бы вам объяснить, ребята и девчата, что психбольница – не место для свобод. Там больные. Причем не обычные температурники, чтобы устраивать детский праздник непослушания (хотя везде персонал требует распорядка). Показать бы вам, что такое шизофренический приступ. Это когда дядя вдруг слышит, что его зовут жена и дочь и хочет всего лишь выйти за пределы палаты пообщаться. А тут набрасываются два санитара и пытаются удержать. А у того от возмущения просыпается чудовищная сила, да такая, что приходится звать третьего санитара, а следом бежим дежурная сестра со шприцем… А на утро любящий муж и отец, которого накануне сдала жена, чтобы защитить себя и дочь от погрома, ничего не помнит и возмущается, что его привязали к кровати.
Фильм Милоша Формана – прекрасная иллюстрация того, как с помощью выразительных художественных средств можно черное выдать за белое. Но даже в этом случае нельзя поддаваться на уговоры и давать симпатичным уголовникам право на бузу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Что же касается свобод как таковых… Мы их получили в 90-е годы, когда вожаки вырвались на свободу и сотворили из страны дурдом. (Вспоминается тут заодно знаменитая песня Высоцкого про «Канатчикову дачу»). И когда я слышу лукавые речи современных либералов насчет тотальной толерантности, то узнаю вкрадчивые речи Вожака из «Пролетая над гнездом дураков». Не свалиться бы туда. Или не пролететь фанерой мимо здравого смысла, как это уже с нами было…
P.S. По прошествии десятилетий (с 1975 г.) стал понятен энтузиазм либеральной общественности по поводу проповеди свобод уголовника в психлечебнице. Из всех возможных моделей «свобод» именно эта оказалась наиболее близкой менталитету либералов, и именно она успешно реализуется на современном Западе. Только больными предстают те, кто против гомосексуализма и безбашенной иммиграции. Их пугают «тоталитаризмом», а проводниками «свобод» являются вожаки в духе героя «Пролетая над гнездом…»
Война и Мир в душе Льва Толстого
Война и Мир – явная дихотомия, противопоставление и, одновременно, взаимосвязанная пара. Она составная часть более глобальной для писателя диалектической пары – Жизнь и Смерть.
Толстой начал писать свой главный роман с повести «Декабристы», но оставил тему, перейдя с возвращения политкаторжан к истокам – событиям наполеоновских войн. Отправная точка важна для понимания творчества Толстого. Противоположности не берутся попусту. Их что-то рождает. Гроза 1812 года ускорила процесс формирования гражданского самосознания. Но государство застряло в крепостничестве. Требовались дальнейшие действия: хоть со стороны граждан, хоть консерваторов. Декабризм – это раскол. Раскол в правящем классе, и трещины будут змеиться до самого финала в феврале 1917 года, когда сама элита отвергнет монархию. Но Толстого интересуют не политические события как таковые.
Настоящий писатель исследует не ход истории, а движения души и сердца (метафизику и психологию). Создаваемые им герои берут на себя грехи и высшие стремления писателя-демиурга. Через них он исследует себя и своих близких, ставя их в разные предлагаемые обстоятельства, чтобы посмотреть, как они поведут себя, чем закончат. И через близкий круг исследуется уже само общество, ибо общее рождается через единичное. Потому писатель редко сочиняет героев с чистого листа, а обычно ищет прототипы. Но обычный художник на этом останавливается, не в силах выйти на обобщения. Настоящий двигается дальше – до типизации. А что за ней?
Толстой увидел проблему в диалектических противоположностях (не одному же К. Марксу обращаться к ней). Проблема «мир и война» в душах и сердцах. Войну как феномен человечества и человека. В животном мире внутривидовых войн нет, все ограничивается короткими конфликтами. Война не нужна людям, но нужна человечеству. Это способ кристаллизации его качеств. И Толстой исследовал ее неустанно помимо самого романа еще в кавказском цикле и далее во всех ее проявлениях вплоть до войны между супругами («Крейцерова соната»). Точно также и мир у него проявляет себя в разных ипостасях. В «Воскресении» все начинается с раскола, – раскола (и войну) душ и в душе, а потом уже стал исследовать движение к «миру».
К теме раскола обратился и Достоевский, но подошел с другой стороны – с проблемы двойничества. Достоевский открыл в расколе бездну, как составную часть природы человека, тогда как для Толстого раскол – следствие греха, нарушающего гармонию бытия.
Два разных подхода – раскрывающих разные грани человеческого космоса. У Толстого – мир есть возможность гармонии (но без сусальства), а война есть то, куда сбрасываются накопленные грехи и там сжигаются в горниле очистительного пламени. На войне гибнут, но если самоотверженно, то им все прощается. Но если это война начинается в миру, как у супругов, то грехи лишь усугубляются. Уж лучше погибнуть на настоящей войне (и Вронский выбирает последний вариант). Кому удалось показать себя достойно на настоящей войне, даже если это отрицательные персонажи романа, тот прощен писателем, кто нет – тому анафема.
Сам он провел жизнь в войнах. С самим собой. С церковью. С семьей… И погиб на ней, не обретя мира. Но все грехи его сгорели, ибо воевал он не щадя себя.
Человек из Сан-Франциско И. Бунина
Почему герой рассказа американец? Почему не русский? Национальность – метка указывающего на суть рассказа. Был бы турист, плывущий в Италию из России, повествование было бы о другом. Если б путешествовал немец – о втором. Но Бунин написал об американце.
Фабула рассказа проста. Семья из США плывет в Италию после того, как некий бизнесмен отошел от дел. Получив свободное время, глава семейства вместе с женой и дочерью решили посмотреть достопримечательности Старого Света. Но, едва вступив на землю Италии, тот умирает. И что? О чем рассказ?
Рассказ о том, что у человека отняли настоящее бытие – его работу, его деятельность, которая составляла смысл его жизни. Господин из Сан-Франциско оказался той рыбой, которую завлекли разговоры про прекрасную природу на суше с ее ярким солнцем, голубым небом, цветами и прочими прелестями. Рыбу вытащили на берег, после чего она… издохла.
У каждого своя среда обитания и надо учитывать данное обстоятельство прежде чем пускаться в путешествие к другим берегам. Ведь может оказаться, что свободы выбора на самом деле нет, как нет ее у рыбы в водоеме.
Пессимизм в фантастике
В западной фантастике с начала ХХ века быстро набирал обороты пессимистический взгляд на человеческую цивилизацию. Оптимизм Жюля Верна остался в прошлом. Ныне практически вся социальная фантастика глубоко пессимистична и это никого не удивляет. Привыкли. Возможность полета к звездам уже не окрыляет. В советское время данной тенденции давали простое объяснение – капитализм загнивает, так откуда взяться оптимизму? Другое дело коммунистическая перспектива… Потому столь удивительным было появление сразу же после «Туманности Андромеды» И. Ефремова «Соляриса» С. Лема (1960 г.). Романа, пропитанного пессимизмом, – как научного, так и гуманитарного. Ну, полетим мы к другим мирам, как бы вопрошал автор, и что? Пусть даже обнаружим там вожделенную разумную жизнь, – и что дальше?
Странная по тем временам позиция. Но ее можно было объяснить мелкобуржуазным сознанием писателя в стране, которая едва начала строить социализм. Потому еще более странным явлением были многочисленные переводы «Соляриса» на русский язык и уже совсем необъяснимым экранизация (дорогостоящей, к слову) этой вещи в СССР. Неужто не было других книг для воплощений на экране? Да сколько угодно, но выбрали именно «Солярис». И поручили постановку не среднему режиссеру, а тому, чья картина априори привлечет к себе внимание публики.
Утверждают, что Лем не воспринял версию А. Тарковского. А что он хотел? Чтобы режиссер нагнал еще большую тоску? Тарковский сумел соблюсти необходимые пропорции между тупиковым будущем Лема и идеологической реальностью. Зато в «Сталкере» он завел человеков в куда большую депрессию, чем это было у Стругацких. У тех мир капитализма уравновешивался образом советского человека в лице Кирилла Панова. А у Тарковского мир уже представлялся единым деградирующим целым. Без какой-либо альтернативы. Это называется «всему свое время». У Тарковского оно настало в конце 70-х, у Стругацких в начале того же десятилетия, у Лема уже в 50-х… У Стругацких и Тарковского иллюзии рассеивались постепенно, у Лема же, похоже, их вообще не было. Как впрочем, у большей части польской интеллигенции (достаточно назвать имя Романа Поланского, а желающим посмотреть его фильмы – «Нож в воде» или «Ребенок Розмари»).
Пессимизм отдельных людей и даже социальных групп понять и объяснить можно, тем более если эти отдельные люди обладают гениальной интуицией. Но понять власть, которая разрешила выпустить два пессимистических фильма подряд о будущем с большим бюджетом – весьма трудно. Неужто люди власти в 70-е годы осознавали бесперспективность дела, которому служили? И не только осознавали в разговорах у себя на «кухнях», но и декларировали выпуском картин-манифестов? А ведь «Солярис» и «Сталкер» были больше, чем кинофильмы в жанре фантастики. И те, кто поручал их постановку такому режиссеру, как Тарковский не могли не понимать, что тот не будет снимать фильмы «вообще», а наделит их философским звучанием. Причем неоднозначным, позволяющим трактовать картины исходя из разных позиций…
Не знаю, стоит ли наделять чертами гениальности чиновников от советской культуры (наверное, нет), но в 1970-х годах перелом в сознании произошел не только у советской интеллигенции, разочаровавшейся в «красном проекте». Для этого достаточно посмотреть фильмы 50-60-х годов и 70-х. Качественная разница смыслов будет очевидна.
О пессимизме же в современной фантастике вести речь вообще нет особого смысла, ибо почти вся она о прошлом, пусть и со звездолетами в качестве антуража для политических интриг всяких герцогов и диктаторов-макиавеллистов. Ибо фантасты уже поняли – европейское будущее – это Новое Средневековье.
Феномен предательства
Предательство – исключительно человеческая категория. В природе предательства нет. Животные поступают, следуя инстинктам и инстинкта предательства своей стаи не существует. Предательство – явление, приобретенное человеком. По Библии оно появилось в Раю! Адама и Еву изгоняют из Рая, в сущности, за предательство. Но и это еще не все, что само по себе это интересно и требует рефлексии, то есть рассмотрения человеком того, что он вносит с собой в мир и откуда это берется. Если исходить из Библии, то предательство появилось в небесных сферах, когда Люцифер предал Бога. Причина – «философские» разногласия по поводу роли Человека в жизни Земли. И Коран подтвердил это, приведя разговор Аллаха с Иблисом…
А если исходить из материалистической теории эволюции, тогда как и на каком этапе возникло предательство?
Индивид с древности мог развиваться лишь в коллективе, сообществе себе подобных. История маугли – маленьких детей, «усыновленных» животными, показывает, что, вернувшись в мир людей, эти особи уже не способны научиться говорить и стать полноценными людьми. Даже прямохождение для них большая проблема. Мозг человека формируется только в тесном контакте с другими людьми. Такое единение предполагает сплоченность и солидарность. И если некто наносил ущерб своему племени, то становился предателем и подлежал жесткому осуждению данного коллектива. Классический пример, предатель вызвавшийся показать персам тропу в обход позиций трехсот спартанцев, что дало возможность врагу прорваться на территорию Эллады.
Но в той же античной Греции возник соблазн двойственной трактовки предательства. Некоего философа по имени Сократ афиняне казнили, посчитав, что он предал их мировоззрение. Но ведь Сократ не выдавал секретов врагу, не открывал им ворота крепости, он всего лишь разговаривал! Но своими вопросами он, что говорится, достал сограждан. И суд решил, что тот, кто вносит разброд в умы, кто ясное делает туманным, достоин смерти, чтобы неповадно было другим.
Вразумление, однако, не подействовало.
Сократ – первый европейский диссидент, с которого пошла амбивалентность, в том числе в трактовке предательства. Когда с латыни на национальные, «простонародные», языки перевели Библию, соблазн усилился. Ибо каждый мог убедиться, что предательство впервые возникло в Раю, когда хитроумный змий предал самого Бога и увлек на эту стезю первых людей. А комментаторы добавляли, что еще раньше часть ангелов подняла мятеж против небесного устроения, вступив на путь предательства. А, учитывая, что человек есть лишь проекция Небесных сил…
Правда, к счастью, лишь малая толика людей способна видеть очевидное, так что истинного соблазна не возникало. Другое дело ситуация с Иудой. Давно уже идет спор о природе его предательства. С одной стороны, он предал Учителя, а с другой тот не мог не предвидеть этого, иначе Он не Сын Божий. Предвидел, но не предотвратил. Почему? Ответ тоже ясен: без этого у Мессии не было бы Голгофы (Страдания), Воскрешения и Искупления! То есть без греха Иуды не состоялась бы христианская Троица. Есть отчего озадачиться.
Налицо «диалектика»: нет предательства – нет Человека и цивилизации. Нет предательства Иуды – нет искупления грехов человечества, нет и обратного доступа в Рай. И так далее вплоть до: нет предательства Яго или Клавдия – нет и великих пьес.
Сколько с тех пор было изгнано, посажено в тюрьму и казнено предателей за мысль-действие и переход к врагу, после чего по прошествии времени членам сообщества объявлялось, что гонимые, по сути, не предатели, а очень даже неплохие люди, более того – герои! В русской истории Александр Невский и Иван Калита для одних предатели-коллаборационисты, для других – великие государственные деятели, действовавших сообразно историческим обстоятельствам. Примерно такая же полемика идет во французском обществе относительно маршала Петэна. Так оно и продолжается. Горбачев или Ельцин – герои свободы или предатели? Суждения разные, ибо критерии давно размыты, потому что предательство амбивалентно. Для Англии «кембриджская пятерка» – разведчики Ким Филби, Маклин и др. – безусловно предатели, а для СССР – безусловно нет. Зато предателями объявлялись Солженицын, Синявский и Даниэль (за что и сидели в лагере), а для Запада они герои. И таким примерам несть числа.
Да что там политики, предательство входит в каждый дом, хотя бы через супружескую измену. А предательство детьми своих родителей, тоже ведь не новость.
Человек вынужден жить с феноменом предательства, как его организм с бактериями. Это симбиоз. Карма. Судьба. Следствие первородного греха. Определяйте, как хотите. Но это сама жизнь. И каждый человек обречен столкнуться с ним: или в качестве предаваемого или предателя.
А все началось с литературного источника – мифа о грехопадении в Эдеме.
Образ Явления
От картины Александра Иванова «Явление Христа» ожидали многого – великого полотна! Но когда ее привезли из Италии на выставку в Петербург, то критики сочли ее «засушенной». Пущенное кем-то определение закрепилось и теперь шлейфом тянется за этим творением.
Но что именно в ней было «засушено» – осталось не проясненным, хотя в искусствоведении по этому поводу написано много. Но уж больно учено и потому малопонятно. В поисках ответа на данную картину можно взглянуть глазами человека, не ведающего о чем сюжет. И тогда он увидит группу купающихся людей, причем один их них, указывает на приближающего к ним человека, мол: «Вот, наконец и он. Я же говорил, что придет».
Почему его ждали? Может, рыболовные снасти должен принести, а может, кувшинчик вина для начавшегося пикника? А какой пикник без интереса… Получается, критики, впервые увидев картину Иванова, не увидели в ней главного – Явления! Узрели нечто бытовой зарисовки. Что-то вроде «Охотники на привале» Перова.
Вот характерные высказывания искусствоведов на сей счет: «В попытке передать величие одного момента ушла драма целого, потерялась трагедия Искупления». «Так получилось, что рассматривать наброски и этюды к этой картине гораздо интереснее, чем смотреть на саму картину. При всей её завершенности и совершенстве композиция картины настолько не интересная и не читабельная, что не подготовленному зрителю видны одни только голые ноги и голые спины набожных евреев, а смысл картины средствами композиции не раскрывается. Даже призыв Иоанна Крестителя не работает на сюжет картины».
Тогда, как надо было нарисовать художнику Явление? Другой бы поступил просто: фигуру на заднем плане освятил ярким сиянием золотисто-белого, исходящего с небес столпа света, что выдвинуло бы ее на передний план. Тогда стал бы понятен испуг и изумление купающихся, и поза их предводителя с протянутыми руками. Однако автор снизил явление до уровня бытовизма, – проходящего путника.
Иванов захотел обойтись без чудесного, отталкиваясь не от Евангелий, где Иисус творит чудеса с частотой фокусника на сцене, а видя в нем «простого» Человека, значение которого понять может далеко не каждый. Оттого часть людей повернуты к Нему спиной. Так и будет у них по жизни, даже если они, по требованию Иоанна Крестителя, согласятся признать в прибывшем Мессию.