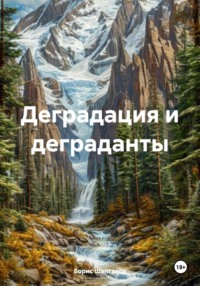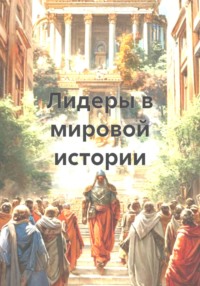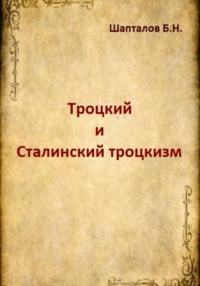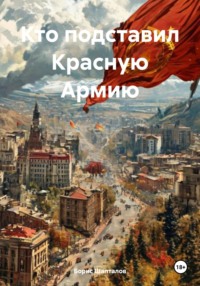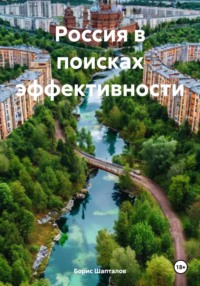Полная версия
Заметки о литературе, и не только

Борис Шапталов
Заметки о литературе, и не только
Обычный человек мыслит фактами, талант – образами
О чем повествует литература?
Литература повествует не о счастье. Счастье ей интересно, как конечный результат, как приближение к нему, но и тут – с необязательным счастливым концом. Люди любят читать про любовь, но вряд ли осилят роман про то, как у молодых людей все хорошо сложилось с самого начала. Счастливый конец – да. Но вначале подай сложности на всю катушку…
Они полюбили, поженились, прожили спокойную благополучную жизнь. Кому это интересно? Другое дело трудности, которые встают на пути влюбленных, их разлука и соединение в конце, пусть даже на смертном одре, как в «Ромео и Джульетте». Если б Шекспир написал пьесу, где враждующие семьи, узнав о любви молодых, их поженили, и те стали жить счастливо и покойно, то эту пьесу давно б забыли за ненадобностью.
Лев Толстой подробно описал перипетии чувственной любви Наташи Ростовой к никчемному Бергу, наглому Долохову, и трагическую – к Болконскому, а когда все завершилось счастливым браком с Пьером, то отвел описанию счастливой супружеской жизни несколько страниц. Достаточно!
Литература описывает жизнь, если та имеет драматический излом. Иначе, по ее канону, нет смысла переводить бумагу и отвлекать читательское внимание. Хотя сам читатель хочет себе и своим близким как раз счастливой жизни без лишних треволнений и тем более трагических поворотов, о чем неустанно желает в поздравлениях ко дню рождения и прочим праздникам. Но в литературе ему подавай прямо обратное! Парадокс? Нет, инстинкт выживания. Все имеет цену, и чем больше приз, тем больше цена и тем больше усилий необходимо приложить. Иначе – застой и деградация. Поэтому столь почитаема приключенческая литература. И любовные перипетии ее, в сущности, разновидность.
Фенимор Купер как антипод американской идее
Успех «индейских» романов американского писателя Фенимора Купера у себя на родине удивителен. Ладно, Европа – экзотика! Но в США? Ведь они противоречили сути американской идеологии, сердцевиной которой был американский фронтир – экспансионистское наступление и освоение Дикого Запада. А это практически вся территория Соединенных Штатов.
Пять романов об охотнике Натаниэле Бампо есть, по сути, эпопея о бомже. Всю жизнь он протаскался по лесам, не создав семьи, не оставив детей, не построив настоящий дом, а лишь пару хижин от непогоды. Но это не помешало такому герою приобрести огромную популярность. Отчего так?
Фенимор Купер творил в духе идеала «природного человека» Жак-Жака Руссо, – человека не испорченного цивилизацией. Позже поэт и философ американец Д. Торо в подражании напишет книгу о своем бегстве от цивилизации «Уолден, или Жизнь в лесу». Только его хватило ненадолго, и он вернулся в город, а литературный Бампо оставался верен «экологической» философии всю свою долгую жизнь. И как его ни просили хорошие люди остаться с ними в нормальном доме и зажить нормальной жизнью, как ни сваталась к нему красавица Джудит Хаттер Бампо был непреклонен – его манили только нетронутые людьми леса.
Ф. Купер творил в эпоху романтизма. Особенностью романов того периода развития литературы – доминирование благородных героев. Их всегда было много на страницах книг, и они всегда были готовы к самопожертвованию во имя долга и чести. Трудно сказать насколько это отвечало реалиям тех времен. Не очень верится: уж больно эпоха работорговли и наличия большего числа бедноты, располагала к воспитанию благородных душ. Зато в романах персонажи с высокими душевными качествами восполняли дефицит духовности. Для того, собственно, и был придуман романтизм с его проповедью возвышенного идеала. А именно таким был Зверобой, он же Кожаный Чулок, он же Следопыт, он же Соколиный Глаз – Натаниэль Бампо. И американцы, истребляя индейцев, благочестиво вчитывались в книги Купера, с затаенным сердцем следя за перипетиями жизни благородных героев в их борьбе с нехорошими людьми. Баланс был соблюден.
Особенности сюжетосложения в романах Ф. Купера
Фабула «Последнего из могикан» совершенно дурацкая по логике. Приключения там – результат глупости главных героев.
С началом войны двое дочерей решили присоединиться к отцу, командующему пограничным фортом и потому наверняка попадавшего под удар. Под лозунгом «разделим судьбу с отцом», они устремились в самое опасное место. И даже когда по пути их чуть не захватили в плен (вот тут и пригодились таланты Соколиного Глаза и Чингачгука), и даже когда выяснилось, что форт окружен, они все равно прорываются туда. И происходит то, что должно произойти – они наконец-то попадают в плен. Причем дело было обставлено опять же глупейшим образом. Командующий противника предложим англичанам покинуть форт с оружием. Солдаты построились в колонну и бодрым шагом покинули укрепления, оставив женщин и детей плестись позади себя. Индейцы воспользовались этим и напали на них. Причем любящий отец даже не соизволил взять к себе под охрану дочерей, оставив их беззащитными среди толпы беженцев. Правда, это позволило Натаниэлю Бампо, он же Соколиный Глаз, проявить свои таланты в ходе их освобождения. Но тут писателю надоело бесконечно спасать двух дур и он разрешил главному врагу убить одну из них. И все бы ничего, но вместе с ней, спасая гусыню, погиб и единственный сын Чингачгука Ункас, подававший большие надежды как будущий вождь делаверов. На этом род могикан прервался. И ради чего, спрашивается?
Роман имел огромный успех у читателей и кинематографистов, неоднократно его экранизировавших. Логические неувязки остались вне внимания публики, уж больно интересны были характеры героев. Для читателей (и зрителей) это главное, а не выверенный сюжет. И Ф. Купер это прекрасно понимал.
Он охотно пользовался готовыми блоками. И в «Зверобое», и в «Могикане», и в «Пионерах» драма завязывается вокруг дочери, на помощь которым приходит охотник Натаниэль Бампо. Причем, если их две, то одна погибает.
«Традицию» с двумя дочерьми Купер начал в своем первом романе «Шпион». В центре повествования семья из двух дочерей и отца-вдовца. Купер почему-то не жаловал матерей, предпочитая, чтобы девушки венчального возраста были одни. Возможно, таким образом писатель давал девицам возможность попадать в сложные ситуации.
Особенностью поведения девушек являлось необходимость терять сознание в трудных моментах. Вообще, в романах XVIII и первой половине XIX веков было принято, чтобы девицы брякались в обморок в качестве высшего проявления своих чувств. Авторы того времени не владели техникой психологического описания, поэтому девушки у них постоянно краснели и бледнели. Например, в «Шпионе» особенностью младшей семьи Френсис было краснеть «до белков глаз»! Представьте эту себе эту страшную картину. Чем не описание вурдалака? Набор смены красок на лице да обмороки, в сущности, исчерпывали набор характеристик женских переживаний. С мужчинами было не легче. То и дело в описаниях встречаются такие перлы: «Лоб Гарпера нахмурился, тень глубокой печали омрачила его черты, а в глазах блеснул яркий луч, обличавший затаенное глубокое чувство. Несколько мгновений Гарпер стоял неподвижно, и на его лице отражалась напряженная работа мысли».
Лишь читая романы того времени понимаешь, столь велик был прорыв, совершенный Флобером, Гюго, Толстым, Тургеневым во второй половине века. И все равно определенный примитивизм не умаляет заслуг Купера – одного из родоначальников американской приключенческой литературы, столько можно затем проявившейся в кинематографе Голливуда, прежде всего «индейской» темы.
_______
Купер, наверное, первый американский писатель-эколог. В каждом романе главным образом устами Натти Бампо он горячо выступал против массовой вырубки лесов и хищнического истребления животного мира. Хотя в то в то время еще существовали обширные территории нетронутой природы, которым, казалось, не будет «дна». Но он уже тогда предвидел неблагоприятные последствия нерасчетливого отношения человека к первозданному богатству.
В то же время Натан Бампо хотя не жаловал цивилизацию, но любил такое ее произведение, как ружье, прозываемое «зверобоем».
Ф. Купер не был бы крупным писателем, если б не отражал противоречия человеческой души. В «Пионерах» он показал, как радетель природы Натаниэль Бампо сам оказался браконьером. Но кто без греха – пусть первым бросит камень…
Писатель В. Нарежный и его «Российский Жильблаз»
Один из первых настоящих романов в России вышел в 1814 году под названием «Российский Жильблаз». Вышел и… тираж был сразу уничтожен «за безнравственность» произведения.
То было сатирическое повествование о приключениях дурака. Дурака, который под ударами житейских обстоятельств, постепенно умнел. Такой тип дурака можно еще назвать простодушным. Это человек, который глуп не от природы, а от недостатка опыта и наивного представления о жизни. Простодушный – человек неадекватно воспринимающий действительность и потому постоянно попадающий в дурацкое положение. В общем-то типичная ситуация для многих людей. Поэтому «Российский Жильблаз» можно назвать воспитательным романом, что было созвучно эпохе Просвещения.
Однако роман о дураке (и дураках), в отличие от пьесы «Недоросль», прошел в русской литературе незамеченным не потому, что его оттеснили на задворки романы об «умных». Цензура, почувствовав двойное дно веселого, водевильного по духу произведения, раз за разом нещадно гнобило представленную рукопись.
Частично произведение вышло лишь в либеральную эпоху Александра II, когда уже вовсю творили Салтыков-Щедрин с его персонажами города Глупова и драматург Островский со своими «мудрецами», на которых однако «довольно простоты». А ведь все это уже было у Нарежного!
Полностью же роман увидел свет лишь в 1938 году! Точнее то, что дошло из обширного текста до потомков. Выживи книга в 1814 году, Нарежный вполне мог попасть в классики и изучаться на филологических факультетах. Не случилось… Роман пришел к читателю слишком поздно, когда уровень литературы значительно вырос, потому автор и его творение остались безвестными. Что делать, как гласит поговорка: «Дорога ложка к обеду…».
Великие экспериментаторы
Достоевский был не просто писателем, он быстро почувствовал в душе нечто, что можно назвать «расколом», или, как он сам определил, «двойничеством». Но еще столь смутно, что попытка художественно описать это состояние потерпела неудачу. И даже концептуально вышло настолько пунктирно, что даже такие чуткие натуры как Некрасов и Белинский ничего не поняли. Чем бы все кончилось неизвестно, если б не арест и приговор к расстрелу.
Несколько часов в ожидании смерти, несколько минут до последнего мига и… объявление о замене казни каторгой. Так молодой Достоевский ощутил на себе эксперимент: его жизнью поиграли и отпустили. Так кошка играет мышкой. Но мышка не имеет возможности описать свои ощущения, а человек способен: и описать, и осмыслить. Каторга добавила новый материал, и Достоевский сам взялся за эту психологическую задачу – экспериментировать над людьми. В художественной форме, конечно.
В самом таком подходе еще не было кардинально нового. В европейской литературе наступил период психологической прозы. Но писатели использовали метод наблюдения за другими, а Достоевский экспериментировал через себя. Он сам становился тем, кого потом выпускал на страницы своих книг.
Что чувствует убийца, решивший убить никчемную старушку? А тот, кто решился на самоубийства из гордыни? А заговорщик, готовый во имя всеобщего счастья, пожертвовать жизнями своих последователей? А что может толкнуть на отцеубийство? А на религиозное кощунство? А..?
Много грехов готовы породить человеки и за всем стоит некое таинство. Чтобы проникнуть до самых глубин мало расспросить преступников, надо самому прочувствовать желанный путь в пропасть.
Федор Михайлович шаг за шагом, не убоясь последствий, проводил эксперименты над собой: точил топор, взводил курок для суицида, разбивал икону, погружаясь в ту часть души и психики, что получило название «подполье». И так на протяжении десятилетий. Какая нервная система такое выдержит? Все должно было закончиться шизофренией или алкоголизмом. Организм Достоевского нашел иной путь сброса напряжения.
Его припадки выглядели эпилепсией. Но эпилепсия разрушает интеллект, а у Достоевского он не снижался. Он умер в полном сознании и умственном расцвете.
Что же дала экспериментальная работа Достоевского? Он прошел путь от неясной догадки о наличии двойничества в человеке (повесть «Двойник») к художественному осмыслению «подполья» в человеческом сознании. Позже ученые облекли их в научные дефиниции.
Сама же природа двойничества внешне проста: это сочетание дьявольского и божественного. Преступление есть победа дьявольского. Об этом расскажет любой подкованный священник. Для обуздания «темного» собственно и существует церковь с ее терапевтическим обрядами (молитвы, покаяние и пр.). Но Достоевский – не моралист. Он почувствовал в зле нечто такое, в чем не решился до конца признаться самому себе и загадал ответить окончательно в следующем романе «Житие великого грешника» на примере положительного Алеши Карамазова.
Достоевский осознал, что у Зла есть Идея! Причем великая! И это потрясло его. Он сказал о ней частично в «Братьях Карамазовых», и там же пытался развенчать ее. Насколько получилось убедительно – судить читателям.
_______
От чего отталкивался Достоевский?
Природа деконструкции, развала, энтропии – не есть примитивный негатив, а часть природы и законов мироздания. Без смерти нет жизни, без распада – обновления, без разрушения – созидания.
Зла и греха, безусловно, надо избегать, но, с другой стороны, если бы их не было, то из чего браться этике? Если б не было безобразного, то как развиваться эстетике – науке о прекрасном? Если бы не грех и преступление, то не появились бы великие романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». И если б не было неправедного суда и казни, то вряд ли б возникли Евангелия. Получается, без дрожжей не получишь пышный каравай.
Эта тайна мучила Достоевского, ведь будучи религиозным человеком, он воспринимал мир как светлое творение Бога. Гностицизм был ему чужд, но… Но что делать, если для написания романа надо предварительно порешить старушку? И будем честны: ведь это сам Лев Николаевич толкнул Анну Каренину под поезд. Не дура же она, имея ребенка, идти на не прощаемый грех суицида. Но писатель понимал, что без такого финала роман не получит завершения. Хватит и того, что он пощадил Наташу Ростову, снизив драматургический уровень, превратив ее в рядовую домохозяйку. Но возвращение Анны к мужу или тихая жизнь с Вронским, и мирное старение было невозможным вариантом. А значит, без помощи зла не могло получиться добро в романе.
Как убийцу тянет на место преступления, так и Толстой окончил свои дни на железнодорожной станции. Из окна ему видны были злополучные рельсы…
Получается, Толстой и Достоевский – два великих «преступника» русской литературы. Такой ценой, порой, дается художественное величие.
Что нарушила Анна Каренина?
Вначале толстовского романа, когда на горизонте нарисовался гвардейский офицер из тех, кого принято называть «блестящим», и положил глаз на Анну, а та на него, все развертывалось обычным порядком. И дальше все должно было пойти так, как наставляла Анну одна из светских львиц и просто опытная женщина: тайный роман без обязательств, легкое шуршание в свете, которому нужен постоянный приток информации о пикантном, но не более того. Это называлось «быть в рамках приличия». (Тогда еще было понятие о приличиях. Аристократия!).
Но Толстой решил выбрать своей героини иной путь. Как психолог он любил эксперименты. Не такие острые, как ставил господин Достоевский, но вполне «естествоиспытательские». Тем более что ранее вышел роман Г. Флобера «Мадам Бовари», в котором все было поставлено верх на голову. (Такой сюжет мужчина придумать не мог, он был взят из жизни, и поразил писателя своей неординарностью). Женщина сама добивалась мужчин, и тратила на них большие деньги, настолько большие, что разорила свою семью.
Нарушение вековых принципов женского адюльтера кончилось для Эммы Бовари смертельной дозой мышьяка.
У Флобера получилась: «нет повести печальнее на свете, чем повесть о нарушенных канонах». И множество читателей ответили волной искреннего сочувствия героине, перекрываемого волной не менее искреннего возмущения безнравственным, а главное странным поведением героини.
Лев Толстой давно уже погружался в бездны женской психологии. К тому же, как человек критически воспринявший Библию, он не мог оставить без внимания тот факт, что все в мире началось с поступка Женщины. Толстой, похоже, интуитивно понимал, что библейская история продолжается в каждой семье, и в его тоже…
Ну, так что положено женщине? Какие красные флажки она не должна переступать, иначе мир начнет рушиться? Чтобы ответить на эти вопросы Толстой решил повторить казус с Эммой Бовари. В своем варианте, разумеется и на более широком социальном фоне. Настольно широким, что его двухтомное сочинение впору назвать «Аристократы». Но в таком случае могло затеряться главное ради чего он взялся за перо – рассмотреть выход за красную черту Анной Карениной.
Итак, до Флобера прерогативой мужчин было разорение из-за женщин. Роковые красавицы, все эти великолепные Манон Леско, толпами бродили по литературным страницам, вызывая страсть в мужских сердцах и сея разрушение. Наш Лесков в «Очарованном страннике» и «Леди Макбет Мценского уезда», и особенно Достоевский с Настасьей Филипповной, отдали талантливую дань сей традиции. Ничего не поделаешь: «Евин грех»! Но мадам Бовари оказалась поперек традиции, сама став жертвой роковой страсти.
Толстой погрузился в открывшуюся ему загадку надолго. Год за годом он следовал за своей героиней. Привыкал к ней, понемногу влюблялся в нее, возмущался ею, восхищался, испытывая все чувства стареющего Каренина, как если б ему самому изменила его жена Софья…
Господи! Что творила Анна! Вместо тайного, приятно щекочущего нервы романа сделала все, чтобы он стал явным для всех и мужа в первую голову. И позорное слово «адюльтер» ударило как гром из синего летнего неба. Это означало потерю репутации. А потеря репутации означала отлучение от света. И ради чего? Молодого человека? Да сколько их бродит, голодных самцов, вокруг! Разве умная Анна не могла понять разницу между романом, который ни к чему не мог привести, а потому должен быть без обязательств, и супружеской жизнью с любовником? Одно дело пылко бросаться в объятиях при встречах, но с непременным расставанием и вздохами: «Ах, как мне будет не хватать тебя!» и жизнью в браке, когда по завершении мига блаженства следует нечто вроде: «Не знаешь, когда вернут белье из прачечной?» Поэтому издавна в обществе было принято разделять любовь и супружескую жизнь. Женились чаще всего не ради любви. Что в крестьянском среде, что в аристократическом обществе брак оформляли во имя размножения. Были, конечно, исключения, когда одна сторона, чаще всего мужчина, имевший право безусловного выбора, оформлял отношения по любви. Это и было нормой. Анна же ломала не только рамки приличия, но и здравого смысла. Гены ветхозаветной Евы бушевали в ней вопреки разумным увещеваниям и вразумлениям со стороны. И предложенному компромиссу тоже.
Каренин, оправившись от позора, решил все же сделать шаг навстречу своей жене, которую он безусловно любил. Он согласился переждать связь жены, но с условием, чтобы больше не видеть в доме Вронского. Предложение более чем снисходительное к чувствам Анны. Но дня не прошло, как Вронский был в его доме! Оказывается, Анна послала за ним… Чудовищный поступок, после которого ничего не оставалось, как подать на развод с лишением ее материнских прав.
Если б это написал не Толстой, то можно было бы обвинить писателя в мужской мести: в желании выставить Анну форменной дурой. (Кстати, такой же – полной дурой предстает со страниц флоберовской повести и Эмма Бовари). Но, пожалуй, стоит поверить, что то был поступок самой Анны. И сам Толстой, говоря современным литературным слогом, обалдел от него.
А дальше пошло по наклонной. Незадавшаяся попытка размеренной супружеской жизни с Вронским. Отверженность. Безысходность, и исход в духе мадам Бовари.
Толстовский эксперимент, вроде бы, доказал художественную справедливость финала Флобера: там и там самоубийство, и обе оставляют после себя сиротами маленьких дочерей. Урок им – будущим женщинам! Полное фиаско при попытке выйти за пределы разумного!
Великие писатели остались мужчинами и каждый из них нес в себе частицу обманутых мужей, немудрено, что их героини, при всем к ним уважении, оказались у них проводницами греха, а потому были наказаны по полной. Зато мужчины в их романах в конечном счете доказали свое благородство: муж Эммы умер от горя, Вронский поехал погибать на войну, Каренин взял на воспитание внебрачную дочь….
В противовес замужеству Карениной Толстой тщательно выписал альтернативу – тихое семейное счастье Левина с Кити Щербацкой. Ох, Лев Николаевич: на деле и здесь не так все просто, в тихом омуте, знаете ли…
Ну и какой из всего этого следует вывод? В том-то и дело, что, несмотря на ясный финал, не получилось у великих писателей ничего с выводом-моралью! Проблема зависла…
Откликом на нее стала куча экранизаций, сотни театральных постановок и масса трактовок (мужских), которые разбавляли женщины-актрисы, защищая себя в образе Анны Карениной или Эммы Бовари. А, казалось бы, чего проще с дилеммой рационализм или безрассудство? Надо погрозить пальчиком и сказать: нельзя так глупо выходить за флажки… Но ведь Ева вышла за них, черт возьми! И с этого поступка началась история человеческой цивилизации. А то б до сих несколько особей бродило в счастливом идиотизме в вольере ради сытой, беспроблемной жизни, не ведая, какая пусть и трудная, но интереснейшая жизнь может заклубиться вне этих стен.
В итоге Адам оказался в роли Бовари-Каренина и породил нас, мужчин. А Ева – наших женщин. Уж какие они есть…
Лермонтов как герой своего времени
Печорин – распространенный типаж. Он появляется в периоды так называемого «межвременья». И сам Лермонтов, как ни открещивался от своего персонажа, очень похож на него. Только на дуэли убили Михаила Юрьевича. Но и в романе по всем обстоятельствам должен был погибнуть Печорин, однако автор вынудил Грушницкого задеть с близкого расстояния, да и то легко, ногу соперника. Не мог же автор оборвать свой роман посередине! А в жизни произошло так, как произошло. И это было закономерно.
Автор, возможно, искренне утверждал, что не знает, как охарактеризовать Печорина. Психология как наука еще не сформировалась, и литература служила средством аналитического описания человека через его заявления и только отчасти действия. Поступки своих героев Лермонтов описал, а прояснить их для себя, возможно, еще не смог. Ну так и Толстой с Достоевским делали это не сразу, а постепенно. Они наращивали свое знание о человеке от повести к повести и далее перешли к толстым романам, потому что чем глубже залезали в чужие потемки (души), тем больше требовалось пространства для их описания и осмысления. И материала оказалось столь много, что вскоре и одного тома стало не хватать. Так что Лермонтову понять «до дна» Печорина, не хватало страниц двести. (Сейчас тоже пишут многотомье, но уже в жанре фэнтази, чтобы подробнее осветить схватку за мировую власть и жизненное пространство. Показательный сдвиг, потому что дело идет к очередному переделу уже поделенному мира.)
В чем драма Печорина? В неразделенной любви? В усталости от общества? Про таких, порой, говорят: «войны не видел», мол, пресытился. Но Печорин войну как раз видел. И смерть однополчан, и геройство – свое и чужое. Но от этого вкус к жизни не появился, ценить ее больше не стал. Что так?
Главная проблема Печорина – в отсутствии цели в жизни, а значит, и стимула. Печорин лишь реагирует на создающиеся ситуации, и выходит из них с честью, демонстрируя недюжинный ум и волю. Оттого он интересен. Но что делать дальше герою – непонятно. «Мотор» работает вхолостую. Ситуация довольно распространенная среди молодых. Такой индивид склонен впадать в депрессию, и выходит из нее самыми разными способами – от алкоголя до смирения с судьбой, хотя бывают и самоубийства. Печорин равнодушен к алкоголю (пьянство – не черта дворянства, а будущих разночинцев и интеллигенции), но тоже считал, что долго не проживет, – ему «скучно» жить. Пробавляясь охотой, стычками с горцами и любовными приключениями, он брел по жизни в ожидании желанного конца – смертного успокоения. По Льву Гумилеву – Печорин переходный тип от пассионария к его противоположности – субпассионарию (деграданту). Такой – остывающая лава. Лавой были декабристы, а этот уже угасающий костер. Впереди его должен был сменить Илья Обломов, чтобы на смену дворянам пришли разночинцы, так и далее-далее… А уж большевики (как ярко выраженные пассионарии) знали, что делать, и не скучали!