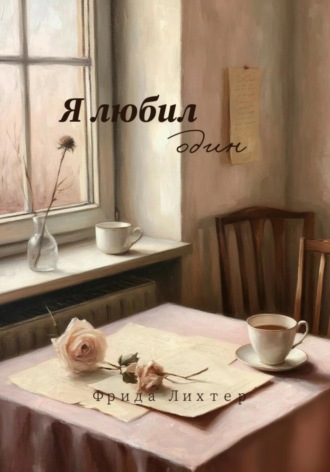
Полная версия
Я любил один

Фрида Лихтер
Я любил один
Годы после школы пронеслись, как смазанные кадры старой киноплёнки. Вчерашние занятия, экзамены, мечты – всё казалось чем-то далёким, будто не с ним происходило. А теперь он стоял перед выбором, который должен был определить его будущее.
Оставаться? Подчиниться? Позволить другим решать, кем ему быть?
Или уйти? Убежать. Бросить всё и, несмотря на страх, идти за своей мечтой.
Милон не помнил точно, когда принял окончательное решение. Возможно, в ту ночь, когда родители в сотый раз твердили ему, что он обязан остаться. Или когда мать смотрела на него с усталой грустью, а отец с разочарованием, и он понял, что в их глазах уже проиграл.
Но он не хотел проигрывать.
Сборы были быстрыми и напряжёнными. Паспорта, документы, билеты – всё проверено по десять раз. Чемодан стоял у двери, тяжёлый не столько от вещей, сколько от мыслей.
Он знал, что родители не поддержат его. Но ведь они не могут запретить, верно?
Пальцы дрожали, когда он глушил телефон, отключая все звонки. Ещё вчера они звучали мягко, сегодня – резко, а к вечеру – угрожающе холодно.
Он не мог их слышать. Не мог снова объяснять. Не мог оправдываться за свою мечту.
Он открыл дверь и вышел.
Холодный воздух ночи резанул кожу, но вместо страха он почувствовал облегчение.
Запах кофе и ванили заполнял терминал. Люди вокруг спешили, смеясь и переговариваясь, но для Милона они были тенью на фоне, частью шумного, но далёкого мира.
Он ловил обрывки разговоров – то детский смех, то чей-то сердитый голос, то крики диспетчера. Всё это смешивалось в единый гул, который бил в виски, заставляя сердце стучать сильнее.
Его рейс высветился на табло.
Он нервно сжал ремень рюкзака, ощущая, как внутри всё сжимается. Это был момент, от которого зависело всё.
А если родители сейчас здесь? Если они найдут его?
Мысль вонзилась, как лезвие. Он невольно оглянулся, ожидая увидеть знакомые лица. Но никого.
Пусто.
И почему-то это было даже страшнее.
Он глубоко вдохнул, выпрямился и шагнул вперёд.
Навстречу другому миру.
Ветер встретил его первым – холодный, колючий, пробирающийся под одежду. Следом за ним пришёл дождь. Мелкий, тягучий, оседающий на коже, будто напоминание, что он больше не дома.
Шасси ударилось о мокрый асфальт, и самолёт задрожал, будто разделяя его волнение. На стекле тут же рассыпались капли дождя – не унылые, а живые, переливающиеся в свете аэропортовых огней. Всё вокруг словно дышало движением: мокрые дорожки рулёжных полос, жёлтые табло с пульсирующими немецкими буквами, яркие неоновые вывески, говорящие: “Willkommen.”
Германия.
В висках гулко стучит кровь. Он сделал это. Он здесь.
Где-то за окнами, среди светящихся вывесок и дождливых улиц, существует мир Баха, этот воздух полон музыки, что меняла судьбы. Здесь улицы, по которым они когда-то шли, здесь голоса звучат так, как он слышал в песнях.
Милон вжимается в кресло, ладони горят. Мир не такой, как он представлял – он лучше. Настоящий.
Самолёт замер. Пристегнутые ремни щёлкают, люди встают, а он остаётся сидеть, позволяя этой реальности пропитаться в кожу.
Он больше не мечтает. Он живёт.
Милон поднял капюшон, но толку было мало – ветер сорвал его и швырнул капли прямо в лицо. Он поёжился, сжал зубы и шагнул дальше.
Аэропорт остался позади. Теперь перед ним был совсем другой мир.
Такси довезло его до небольшого отеля ближе к центру. Машина мягко затормозила у входа, а Милон замешкался, глядя в окно.
Здесь теперь его дом?
Он заплатил водителю, достал чемодан и вошёл внутрь.
В коридоре пахло дешёвыми освежителями, а ковровое покрытие было тёмно-синим, с вытертыми узорами. Типичный дешёвый отель – не место мечты, но пока что единственное, что он мог себе позволить.
Номер был маленьким, но тёплым. Простая кровать, рабочий стол, тусклая лампа. Всё казалось временным.
Он бросил вещи, сел на край кровати и провёл руками по лицу.
Глаза жгло от усталости, но сознание отказывалось отключаться.
Реальность бьёт сильнее, чем страхи
В кармане – ветер и несколько банкнот.
Он пересчитал деньги. На три месяца. Если жить экономно.
Счёт в банке был заблокирован. Родители настояли. Он мог пользоваться деньгами только при определённых условиях – те, которые он сам нарушил, сбежав сюда.
Чёрт…
До этого момента он был так поглощён самим фактом побега, что не думал, что вопрос выживания встанет так скоро.
Работа. Ему нужна была работа.
Зачем он здесь?
Он лёг на кровать, уставившись в потолок.
Сколько времени прошло с тех пор, как он вообще задумал уехать?
От пятнадцати до девятнадцати лет он жил только одной целью – сбежать, учиться, стать хирургом.
Но теперь, когда он здесь…
Почему-то чувствовал себя не победителем, а потерянным ребёнком, выброшенным в чужой город.
В первый раз за всю ночь он взял телефон… и на секунду захотел позвонить домой.
Но в следующую секунду он уже выбрасывал его на край стола.
Звонить некуда.
Ему больше некуда возвращаться.
На следующий день после прибытия в Мюнхен Милон проснулся рано, когда город за окном уже гудел утренней суетой.
Здесь нельзя было оставаться.
Собрав вещи, он отправился в другой отель – подальше, но тише и аккуратнее. Там, уткнувшись в карту города, он осознал: теперь всё зависит только от него.
С этим осознанием он вышел в город и начал менять себя.
Первым делом он избавился от всего, что связывало его с прошлым. Старый телефон – в мусорку. Вместо него он купил новенький Siemens. Новый номер, новая жизнь.
Потом одежда. Он зашёл в магазин, прошёл мимо толстовок и джинсов – ему не нужен был подростковый стиль. Ему нужен был образ человека, который знает, чего хочет. Тёмное пальто, приталенная рубашка, стильные ботинки. Когда он взглянул на себя в зеркало, ему впервые показалось, что он на шаг ближе к своей мечте.
Он следил за тем, как говорит. Больше никакой неуверенности, никакой мягкости в интонациях. Он говорил твёрже, отчётливее. Акцент был заметен, но его можно было сгладить.
Всё это заняло день. Вечером, вернувшись в гостиничный номер, он включил старый CD-плеер, который купил на вокзале, и сел у окна.
За стеклом гудел вечерний Мюнхен, город, где никто его не знал, где он мог быть кем угодно.
– Начнём, – прошептал он.
И музыка стала первым звуком его новой жизни.
Прошел месяц.
Милон ощущал себя гостем, который пришел не на тот праздник.
Язык был словно зыбучий песок – чем больше он пытался ухватиться за смысл, тем глубже проваливался в собственное бессилие. Он понимал, но не успевал за ритмом. Каждое слово требовало усилия, каждая фраза звучала в голове, как плохо настроенная радиоволна. Немцы говорили быстро, почти не оставляя шансов разобрать их речь с первого раза.
Но это был лишь один из множества барьеров.
Подготовительный курс: между надеждой и разочарованием
Этот год должен был перекроить его сознание, выжечь старое и впитать новое.
Аудитории, в которых собирались такие же, как он – иностранцы, еще не вписавшиеся в немецкую реальность. Их глаза говорили больше, чем слова: восторг сменялся замешательством, уверенность – усталостью, а в каждом взгляде жила тень одиночества.
Преподаватели были терпеливы. Они говорили чётко, медленно, словно разжевывая каждое слово. Исправляли ошибки с холодной вежливостью, но Милон всё равно чувствовал себя на шаг позади.
Он выходил с занятий с тяжестью в голове. Слова, которых он не понимал, гудели, как гулкий эхо в пустой комнате.
Но хуже всего было не это.
Ему казалось, что он знал Германию.
Но то, что он знал, было лишь нарисованной картинкой.
Здесь никто не заговаривал просто так. Вопросы о личной жизни казались почти неприличными. Улыбки были редкостью, а общение – четко регламентированным ритуалом.
– „Warum reden Sie mit mir?“ – однажды спросил пожилой мужчина в супермаркете, когда Милон попытался завязать разговор.
Всё было четким, строгим.
Однажды он пришёл на занятие на пять минут позже.
Преподаватель не сказал ни слова.
Но этот взгляд говорил больше, чем любые упрёки.
Даже улицы жили по своим законам. Милон заговорил слишком громко в метро – и на себе почувствовал вес чужого неодобрения.
Мир, в который он попал, был бескомпромиссным.
Поздний вечер.
Город жил, но жизнь текла мимо него.
Он стоял на балконе своего съёмного жилья, глядя на тёмные силуэты домов.
В кармане – сигарета.
Он не курил годами. Это никогда не было привычкой, лишь редким ритуалом в моменты, когда внутри всё сжималось в узел.
Сегодня был такой день.
Щелчок зажигалки. Огонёк вспыхнул, озаряя пальцы.
Он сделал первую затяжку. Дым медленно растаял в холодном воздухе.
И вместе с ним растворилось чувство чужеродности.
Хотя бы на мгновение.
"Я здесь. Я справлюсь."
Милон быстро понял: знать язык на уровне B1 – это одно, но жить на нем – совсем другое.
Первое время он чувствовал себя немым среди говорящих.
На занятиях он сидел в углу, записывая в блокнот слова, смысл которых ускользал от него. В магазинах указывал пальцем на продукты, боясь, что продавец начнет задавать вопросы, на которые он не сможет ответить.
Но хуже всего было ощущение изоляции.
Оно накатывало особенно сильно по вечерам, когда он возвращался в свою съемную комнату, снимал куртку и падал на кровать.
"Это пройдет," – уговаривал он себя.
"Я привыкну."
Но пока не проходило.
Первый настоящий удар по нервам пришел вместе с бюрократией.
Он знал, что в Германии любят порядок, но не ожидал, что без одной бумажки не получить другую, а без третьей – нельзя даже завести банковский счёт.
– Anmeldung? – переспросила строгая женщина в Bürgeramt, разглядывая его документы, как будто они были испачканы.
– Ja… – начал было Милон, но она уже качала головой.
– Falsches Formular. Sie brauchen das hier.
Она протянула ему новый лист.
"Опять не то…"
Вышел на улицу. Вдохнул. Посмотрел на листок в руках.
Это был уже четвёртый раз, когда он приходил сюда.
Он устал. Он не знал, как это всё работает. Он хотел домой.
Но домой пути не было.
Так что он пошел в соседнее кафе, заказал крепкий черный кофе и пошел домой.
"Ладно. Разберёмся."
Прошло два месяца.
Что-то изменилось.
Он уже не вздрагивал, когда к нему обращались по-немецки. Он научился заполнять бумаги, не чувствуя, что теряет рассудок. Он начал замечать мелочи, которых раньше не видел:
– Как немцы ждут зеленого света даже на пустых дорогах.
– Как за столом не спрашивают: «Как дела?», если не готовы выслушать ответ.
– Как улыбка не всегда означает доброжелательность, но если кто-то улыбается искренне – это значит больше, чем слова.
Но самое странное случилось в один из холодных осенних дней.
Он стоял на автобусной остановке, когда к нему подошел турист с картой в руках.
– Entschuldigung, wissen Sie, wo…
Он автоматически указал направление, произнеся фразу чисто, без единого замешательства.
Турист поблагодарил и ушел.
И только потом до Милона дошло:
Этот человек принял его за немца.
И впервые с момента приезда он почувствовал, что действительно принадлежит этому месту.
Два месяца в новом городе пролетели так, словно кто-то вычеркнул их из жизни. Милон привык к расписанию, улицам, к языку, который теперь уже не резал слух так сильно, как в первые недели. Но деньги уходили быстрее, чем приходило понимание немецкой речи, а жить на сбережения долго не получится.
Работа. Она нужна была срочно.
Он пересматривал объявления в газетах, высматривал таблички "Wir suchen Mitarbeiter" в витринах, но ничего не цепляло взгляд. Всё казалось слишком шумным, суетливым, не его. Официантом он работать не мог – слишком много общения. Продавцом? Уныло. Он уже почти потерял надежду, когда наткнулся на небольшое объявление: "Флорист. Желателен опыт".
Милон задержал дыхание.
Бабушка.
Он не помнил дня, когда она впервые начала рассказывать ему о цветах, но помнил её руки – крепкие, но мягкие, покрытые тонким слоем земли. Она говорила о пионах, будто о старых друзьях, называла розы "женщинами с характером", а лилии – "цветами для тех, кто всё ещё ищет себя". Милон знал, как ухаживать за ними, знал, что сочетается, а что нет.
Магазин оказался небольшим, но уютным. В воздухе смешались запахи роз, эвкалипта и влажной земли. На кассе сидела женщина лет пятидесяти, в очках на кончике носа. Она посмотрела на него поверх оправы.
– Опыт?
– Неофициальный, – честно ответил он.
– Немецкий?
– B1.
Она кивнула и вдруг махнула рукой в сторону витрины.
– Сделай букет для девушки, которой грустно.
Он не спрашивал, что она имеет в виду. Просто молча подошёл, выбрал нежно-розовые пионы – символ нежности и тепла, добавил эвкалипт, чтобы придать свежесть, и несколько сиреневых фрезий. Цвета перекликались, но не спорили друг с другом.
Когда он закончил, женщина посмотрела на букет, потом на него.
– Начнёшь помощником, – сказала она, убирая очки. – Посмотрим, что из тебя выйдет.
Милон кивнул. В груди будто стало чуть легче.
Осень в Мюнхене всегда начиналась с тишины. Ни порывов ветра, ни резких ливней – только прохлада, наполняющая утренний воздух, и багряные листья, устилающие старые улицы. Милон стоял у входа в академию, разглядывая массивное здание с колоннами. Всё было иначе, чем год назад, когда он только приехал в эту страну – теперь его не тревожила неуверенность, язык больше не казался чуждым, и даже прохожие, которых он раньше воспринимал как некий фон, теперь представлялись отдельными историями.
Он прошёл внутрь, где уже собрались первокурсники – в основном немцы, некоторые иностранцы, но все, казалось, понимали, куда попали. Атмосфера вызывала не страх, а уважение. Врачи не должны бояться – это было его первое правило.
Академия встретила его строгой чистотой, запахом кофе и бумаги. Люди говорили спокойно, но уверенно. Среди них он не чувствовал себя чужим – прошлый год подготовки сделал своё дело. Если вначале он думал, что Германия никогда не станет для него домом, теперь это было просто место, где он строит свою жизнь.
Пары начались сразу, без долгих вступлений. Преподаватели не делали поблажек, но в этом и был смысл: хирург не имеет права на небрежность.
II
Первые дни учёбы Милон провёл в напряжении. Академия хирургов в Мюнхене встречала студентов строго: лекции начинались рано, преподаватели не повторяли дважды, а если ты не понимал материал – это были исключительно твои проблемы. Здесь не было привычного контроля, никто не проверял домашние задания, но от этого было только сложнее.
Он пытался не выпадать из общего ритма, но иногда казалось, что остальные студенты понимают гораздо больше. В его группе были и немцы, и иностранцы, но у большинства уровень языка был выше. В первое время он не всегда успевал за быстрыми дискуссиями, а некоторые термины звучали, как набор звуков. Но он знал одно: в хирургию не попадают случайно, и если он уже здесь – значит, должен справиться.
Жизнь в общежитии тоже была испытанием. После нескольких месяцев в съёмном жилье переход в маленькую комнату казался шагом назад, но он понимал, что это лучшее, что можно себе позволить. Его соседями по коридору оказались студенты со всего света – с разных континентов, разных культур. Ночами в коридоре слышались разговоры на арабском, испанском, китайском, и даже русская речь мелькала неожиданно часто.
Серафим был первым человеком, с кем Милон по-настоящему подружился. Высокий, с лёгкой, но уверенной походкой, он двигался так, будто весь мир был его территорией. Волосы – густые, тёмные, с лёгкой небрежностью уложенные, будто он только что взъерошил их пальцами. Глаза – глубокие, тёмно-серые, чуть ленивые, но в то же время внимательные. В нём чувствовалась какая-то природная харизма, смесь уверенности и лёгкости, которая сводила девушек с ума. Он не делал ничего специально, не бросал нарочитых взглядов, не играл, но стоило ему улыбнуться – и всё, половина женской аудитории уже мысленно писала его фамилию рядом со своим именем.
Милон на его фоне выглядел иначе. Спокойный, сдержанный, с точными, выверенными движениями. Ему было свойственно больше наблюдать, чем говорить, но при этом в его взгляде всегда была сосредоточенность. Он умел держать дистанцию, но не выглядел отстранённым. В отличие от Серафима, который притягивал людей своей энергией, Милон обладал другим магнетизмом – тем, что заставлял задуматься, кем он был за этой внешней сдержанностью.
Их познакомили случайно – на общей лекции, когда Милон не мог понять, как правильно заполнять документ, а Серафим подсказал, даже не дожидаясь просьбы.
– Не парься, я через это тоже проходил, – усмехнулся он, легко забирая у Милона лист. – Вот тут укажи номер студенческого, а здесь подпись. Всё.
– Спасибо, – кивнул Милон, всё ещё чувствуя себя неловко.
Серафим смерил его внимательным взглядом.
– Ты первый год в Германии?
– Год подготовки, а теперь вот… полноценная учёба.
– О, тогда ты ещё не знаешь, как всё устроено.
Серафим оказался прав. Он действительно знал всё: где в академии можно незаметно перекусить, в каком кафе студенты получают скидки, когда лучше идти за продуктами, чтобы не нарваться на толпу. Он знал, как обходить бюрократию, какие документы лучше подавать сразу, а какие можно отложить.
– Немцы никогда не опаздывают, – объяснял он, когда они шли по кампусу. – Это, наверное, самое важное правило. Если твоя встреча назначена на три, ты должен быть там без пяти три.
– А если ровно в три?
– Это уже опоздание.
Милон усмехнулся.
– И что, если ты всё-таки опоздаешь?
– Ну, вряд ли тебя за это казнят, но осуждающий взгляд ты получишь точно, – усмехнулся Серафим. – В общественном транспорте, например, все тоже ведут себя очень чётко. Не вставать на велосипедную дорожку, не шуметь в метро, не разговаривать по телефону в автобусе.
– Что, даже позвонить нельзя?
– Можно, но если ты начнёшь орать в трубку, то быстро почувствуешь себя лишним.
Они шли по аллее, осенние листья шуршали под ногами, воздух был свежий, немного пахло дождём.
– А ты быстро привык? – спросил Милон.
Серафим пожал плечами.
– По-разному. Я тоже сначала путался, мне казалось, что все вокруг меня какие-то холодные. Но потом понял: они не холодные, они просто так устроены. У нас в России ты заходишь в магазин, и продавец может сказать: «Ой, милок, а тебе вот этот хлеб лучше возьми, он свежее». Здесь такого нет. Здесь ты просто клиент. Никому нет до тебя дела.
– Это немного пугает.
– Не пугайся. Когда привыкаешь, это даже нравится. Ты становишься… свободнее.
С этими словами Серафим ухмыльнулся и хлопнул его по плечу.
Жизнь продолжается
Прошло несколько недель, и Милон начал ощущать, что адаптируется. Он больше не путался в расписании, научился ориентироваться в академии, перестал теряться в немецкой речи, когда кто-то говорил слишком быстро.
Но больше всего он ценил моменты, когда в бесконечном потоке учёбы удавалось остановиться. Как, например, сейчас: вечер, они с Серафимом сидят в небольшой кофейне у университета, пьют кофе и обсуждают лекции.
– Так что, думаешь, осилим всё это? – протянул Серафим, крутя чашку в руках.
– Осилим, – ответил Милон.
– Ну и отлично. Главное правило – не сломаться. Остальное приложится.
Милон посмотрел в окно. На улице уже зажглись фонари, свет отражался в лужах на асфальте.
Он был в другой стране, среди незнакомых людей, далеко от дома. Но впервые за долгое время он не чувствовал себя потерянным.
Милон спал урывками. Ему снился странный сон: он стоял у школьного окна, а за стеклом лил осенний дождь. Кто-то звал его по имени, но голос глухо тянулся, будто через слой воды. Он пытался ответить, но губы не двигались
А потом дверь в реальность распахнулась с таким грохотом, что сон рассыпался в пыль.
– Подъём, солдат!
Милон дёрнулся, открыл глаза. В дверном проёме стоял Серафим – босиком, в мятой футболке и с видом человека, который уже успел наворотить дел.
– Ты что, умер? – возмущённо продолжил он, переступая через раскиданные по полу вещи. – Двенадцать дня, а ты всё в коме! Это даже по студенческим меркам запредельная деградация.
Милон медленно сел на кровати, потянулся, проморгался.
– Чего тебе?
– Тебя ждёт великий день. Сегодня ты встретишь Розария.
– Кого?
– Розарий, Милон. Парень, который сможет вытащить тебя из трясины тупости и научит не путать желудочек с предсердием.
– Я не путаю.
– Ага. Скажи это тем несчастным, кому ты будешь ставить диагноз. “Поздравляю, у вас хронический аортальный насморк”.
Милон закатил глаза, но всё же встал. Серафим плюхнулся на стул, вытянув ноги.
– Короче, Розарий – гений, задрот и ходячий немецкий порядок в одном флаконе. Зато если подружишься, то сессия перестанет быть твоим личным адом.
– А если не подружусь?
– Ну, тогда остаётся только два варианта: или ты сам становишься гением, или мы с тобой сбегаем в леса и заводим ферму.
Милон накинул свитер, посмотрел на себя в зеркало. В отражении мелькнуло что-то новое – чужое, но не отталкивающее. Он создавал себя заново.
– А ещё у него есть сестра, – вдруг вспомнил Серафим, прищурившись. – Близняшка. Розанна.
Милон бросил на него взгляд.
– И что?
Серафим ухмыльнулся.
– Просто предупреждаю. Будь готов.
Серафим выволок Милона из комнаты с энтузиазмом человека, который сам ещё не до конца проснулся, но уже готов делать хаос. Они спустились по лестнице, прошли по длинному коридору общежития и оказались у двери, за которой жил тот самый Розарий.
– Не переживай, он не кусается, – сказал Серафим, приосанившись. – В отличие от меня, у него есть тормоза.
– А ты-то зачем тогда знакомишь меня с ним?
– Потому что я социальный клещ, Милон. Я внедряюсь в твою жизнь и насаждаю тебе друзей.
Он уже собирался постучать, но дверь открылась сама, и на пороге возник Розарий.
Розарий выглядел так, будто его только что вытащили из книжного шкафа: волосы светло-русые, идеально уложенные, но с парой выбившихся прядей, как будто даже его порядок иногда уставал быть идеальным. Очки с тонкой оправой, строгая рубашка – небесно-голубая, не в тон его глазам, но подчёркивающая их холодный цвет. Держался он прямо, сдержанно, но не высокомерно. Был в нём что-то… безукоризненное. Внимательный взгляд, немного усталый, как будто его вечно мучили чужие глупые вопросы.
Если Серафим был ураганом, то Розарий напоминал ровную линию на кардиограмме спокойного человека.
– Ах, как удачно, – заметил он, переводя взгляд с одного на другого. Голос ровный, без резких интонаций. – Серафим, ты снова привёл кого-то, кто не умеет читать лекции?
– Розарий, это Милон. Милон, это Розарий. Теперь вы обязаны подружиться, иначе я разочаруюсь в вас обоих.
Милон протянул руку, Розарий слегка нахмурился, но всё же пожал её.
– Милон? Русский?
– Да.
– Ну что ж. Посмотрим, насколько ты стойкий.
– Почему это?
– Потому что моя сестра захочет с тобой познакомиться.
И тут дверь вглубь комнаты со скрипом отворилась.
Розанна.
Она была копией Розария и его полной противоположностью одновременно. То же лицо, те же глаза – холодные, чистые, пронзительно-голубые. Но если он был льдом, то она напоминала солнце, пробивающееся сквозь ледяные ветви. Волосы, такие же светлые, были заплетены в косу, чуть растрёпанную, будто её только что распустили и заплели снова.
Одежда простая – свитер молочного цвета, тёплый, уютный, как зимнее утро, и тёмные джинсы. Держалась она легко, свободно, с улыбкой, в которой мелькало что-то почти игривое. Но Милон уже чувствовал: эта игривость – только поверхность.
Она не просто вышла в комнату – она ворвалась, как будто весь день ждала момента, чтобы объявиться.
– Где русский?!
Милон машинально сделал шаг назад.
– Ой, ты и правда русский! – Розанна обошла его по кругу, как кошка, изучающая новую территорию. Голос мягкий, но быстрый, будто она привыкла думать вдвое быстрее, чем говорить. – Как тебе тут? Как Германия? Как тебе наш язык?
– Эм… хороший.
– Ты милый, – заключила она, кивнув, будто ставя диагноз. – А теперь вопрос: ты свободен?

