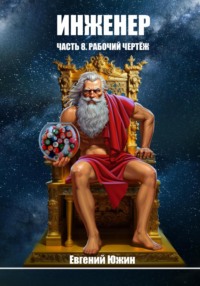Полная версия
Синхрон
Забрался на галерку и попытался вслушаться, но толком ничего не получалось – в голове крутилась собственная история и те тысячи слов, что надо было сказать, но которые так и не прозвучали. Сосновский время от времени посматривал в мою сторону – казалось, был немного озадачен. Не разыгрывают ли его? В университетской среде, не сказать что повсеместно, такое бывало, а тут к тому же куча камер – гипотетическому шутнику будет чем похвастать.
С трудом дождался. Чувствовал немалое раздражение, когда вертлявая пигалица – ну какое ей дело до нюансов иммунитета, скажите на милость, скорее я бы поверил в чисто женский, пусть даже и неосознанный интерес к маститому лектору – вцепилась в него десятком, на мой взгляд, глупейших вопросов. Надо отдать тому должное – он терпеливо отвечал, даже когда было явно видно, что озадачен сложностями восприятия поклонницей, как я обозвал ее про себя, очевидных вещей.
Наконец отделался, поднялся, собирая записки, и кивнул мне в сторону знакомой двери.
– Степан, для начала несколько вопросов. Вы же не против? – предложил он, едва мы устроились за тем же столом.
Я кивнул, признавая очевидное:
– Конечно.
– Будем исходить из того, что все, что вы рассказывали, – правда, – он сделал небольшую паузу, оценил мою кислую гримасу, и продолжил. – Первый вопрос: вы знаете, что за вещество было в той трубке?
– Самое смешное, что да. Мне же самоварщики скидывали таблицы, а подписывали они их прямо-таки формулами. Скорее всего, просто копировали из технологической карты. По мне так лучше бы они адреса портов подписывали, но и так сойдет. Я все равно все по-своему потом переделывал. Так что да.
Немного торопясь, нашел в телефоне нужную таблицу и протянул Сосновскому:
– Порт номер семнадцать. Это в шестнадцатеричном формате, – ткнул пальцем в экран.
Собеседник некоторое время задумчиво рассматривал картинку, пару раз сдвинул ее пальцами, потом остро глянул на меня, застывшего в ожидании, и оттолкнул телефон по столешнице в мою сторону.
– Любопытно, – впервые в его глазах я не видел терпеливой скуки, показалось, передо мной проявился другой человек. – Знаете, Степан, самые важные органы, вроде мозга, например, организм защищает от собственной же крови дополнительными барьерами. Ну, чтобы там нежелательные крупные молекулы или бактерии какие не могли пролезть куда не надо. Кроме мозга, такой барьер есть и у сетчатки. Очень похожий, кстати. Так вот, для фармакологии эти барьеры – проблема. Они ведь и некоторым лекарствам не дают туда попадать, – он поправил очки и протянул руку, снова завладев моим телефоном, постучал по экрану, продолжил. – Вот это, то, что у вас числится под номером семнадцать, – как ни странно, я знаю. Долго объяснять, но если по-простому, то это вещество на время как бы ослабляет связи мембран клеток, которые и формируют барьер. Все остальное настолько специфично, что я даже не берусь судить. Скажу лишь: мне кажется, они экспериментируют с каким-то лекарством для офтальмологии. Но это и не важно.
– Как же не важно? У меня, похоже, именно со зрением проблемы!
Сосновский смотрел с иронией:
– Не слышал, чтобы вы на него жаловались, – он полюбовался моей обиженной физиономией и добавил: – Вы сами сказали, что по собственной инициативе нанюхались, – ухмыльнулся, – только номера семнадцать. Судя по всему, если что-то и повлияло на ваше зрение, то опосредованно. Воспользовавшись, так сказать, тем, что барьер на вашей сетчатке на некоторое время ослаб. Но мы не о том говорим.
– Не понял. Именно это меня и волнует. Я для этого и пришел!
– Чепуха, – мой собеседник вяло отмахнулся. – Взаимодействие любой материи… – он задумчиво повертел пальцами, – …как бы это сказать? Взаимно. То есть если ваша сетчатка реагирует на потусторонний свет – давайте так это называть, вы же не против? – я кивнул. – То и люди на той стороне, назовем их так, тоже должны видеть это взаимодействие.
– Вы же его не видите. Оно только в моих глазах. Вот и они не видят.
– Скорее не замечают, – задумчиво почти пробурчал себе под нос Сосновский, бросил быстрый взгляд на часы, спросил: – А как предметы оттуда пересекаются с реальностью? Вот, например, если вы видите там стену – вы можете рассмотреть реальные предметы за ней?
– Нет. Если стена ближе пары метров, ну, может, чуть дальше, то она уже выглядит как реальная, и я не вижу, например, человека, который стоит дальше. Ну, почти.
– Что значит «почти»?
– Если стена темная – например, это внутри здания, а человек здесь, на солнце, то будет просвечивать. Все зависит от того, где свет ярче, хоть и не всегда. Когда там ночь, а я в освещенном помещении, то вообще того мира могу не видеть – тени одни. Ну, знаете, как если бы реальный стул, например, на который я смотрю, как будто тень какая-то накрыла.
– А сейчас? Здесь что-нибудь видите?
– Конечно. Вот там, за окном, кусок металлической фермы висит, от него трос или труба тонкая – не пойму, тянутся как раз под потолком этой комнаты.
– А люди?
– Не, – я усмехнулся. – Второй этаж, а там какая-то промзона или что-то такое непонятное. Фермы, лестницы, какие-то, вроде, провода. Пока сюда шел, один-единственный человек мелькнул навстречу.
– Мелькнул?
– Ну да. Я же говорил, пара метров – предел. Он проявился и сразу исчез, как разминулись. Чтобы рассмотреть, я должен идти с ним рядом. Представьте, как это будет выглядеть – реальные стены и люди – они, в отличие от тех, твердые. Хрен прошибешь!
– А сквозь реальные предметы просвечивает?
– Никогда. Такое ощущение, что тамошний свет еле проникает в наш мир. Пять метров, и он полностью теряет энергию. Куда ему реальные предметы пробить! Мужик тот – помните, первый, кого я встретил, – он только от колен был виден, что у него там ниже пола болталось – неизвестно.
– Непонятно тогда, как вы видите сквозь закрытые веки.
– Понятия не имею. Возможно, мои хрусталики – так сказать, первая инстанция. Первое, что реагирует со светом оттуда. А дальше все определяется по простому правилу: кто завладел рецептором, тот и правит бал.
Сосновский снял очки, потер лицо руками, снова надел, вгляделся в мое лицо:
– Ну что вам сказать? Есть пара идей.
– Слушаю вас более чем внимательно.
– Отлично, – кивнул он. – Первая: я не специалист по фоточувствительным рецепторам, могу лишь коротко сказать – так, чтобы не грузить подробностями, – что при возбуждении они как бы гиперполяризуются. Это термин для обозначения электрохимического потенциала мембраны, – он всмотрелся в мои затосковавшие глаза и добавил после небольшой паузы: – Неважно. Я не офтальмолог, но предположу, что у них может быть оборудование для исследования карты, назову это так, возбуждения рецепторов на тестовое освещение. Предполагаю, что если облучить дно сетчатки поляризованным светом разных длин волн, то можно наблюдать некоторое как бы отражение на ней. Понятия не имею, есть ли что-то подобное, но для вас это был бы идеальный способ доказать, что вы не псих или фантазер. Понимаете?
– Вы хотите сказать, что если на дне моего глаза удастся разглядеть картинку потустороннего, – я невольно поморщился, термин мне не нравился, – да еще и каким-то прибором, то есть объективным инструментом, то я с чистой совестью покину моего психиатра и стану глубокоуважаемым подопытным кроликом в каком-нибудь суперинституте?
– Точно! Именно это я и имею в виду!
– Чудесно, – уныло согласился я. – Ну, по крайней мере, не буду психом числиться, – я посмотрел на потемневшее пространство за окном и всмотрелся в довольного Сосновского. – Вы говорили про еще одну идею. Так?
– А, ну да, – собеседник, уже было засобиравшийся, замер, нависая над столом. – Я же сказал – любое взаимодействие взаимно. Там тоже должны что-то видеть.
Я попытался возмущенно перебить его, но он не дал:
– Я не призываю вас маячить перед каждым призраком, как вы их назвали вначале, ожидая его реакции. Здесь важно место. У самоварщиков – кстати, чудесное прозвище – вы были чем-то облучены. Чем-то вроде света, похожего на лучи лазеров, так?
– Ну да. Только широкие такие, как будто через линзу пропустили.
– И там же вы нанюхались?
– Ну, не сильно-то и нанюхался, как вы выразились, – почему-то надулся я, вероятно, потому что осознал, какой глупостью это было.
– Вот и исследуйте то место. Смотрите: именно там, похоже, сошлись два условия – что-то происходящее в том мире и то вещество, повлиявшее на ваши глаза. У вас же теперь суперспособность в наличии. Кроме всего прочего, что-то должно было проникнуть через дырявый барьер в вашей сетчатке, какое-то вещество. И это вряд ли простая химия. Здесь физикой попахивает, прости господи! Хрусталики ваши ведь тоже должны реагировать на чужой свет!
– Смеетесь?!
Сосновский хитро улыбнулся:
– Ну, может быть, немного, – он поднялся, замер, уже готовый оставить меня, ухватив за ручку лежащий на столе тощий портфель, и неожиданно спросил: – А вы, Степан, чего хотите? Чего добиваетесь?
Я встал. Стало ясно – лимит времени исчерпан, но вопрос врасплох не застал:
– Понятно чего! Хочу стать нормальным. Чтобы было, как раньше.
Сосновский, уже было двинувшийся к двери, замер, полуобернувшись, всмотрелся, поблескивая стеклами очков, и, нахмурившись, тихо бросил:
– Странно. Мне сейчас впервые почудилось, что я вам поверил.
Домой добрался под вечер. От метро ехал на такси – так легче, но желанного покоя не обрел. Там – ну, вы понимаете – пошел дождь. И бабушкина квартира от него спасти не могла. Вообразите, что на любой предмет приходится смотреть сквозь пелену падающей воды. Хотел поработать – в понедельник сдавать отлаженные модули, – но экран компьютера и дождь совмещались слабо. Пришлось забить и, закрыв глаза, вслушиваться в пустую болтовню радиоведущих – основательно подзабытое средство широкого вещания обрело с некоторых пор особую популярность в моей норе – вместе с компом дождь превращал в ненужный хлам любые экраны, будь то телевизор, смартфон или планшет. Хуже того, темнело у нас и у них одновременно, что часто дарило мне такой желанный отдых – темнота не беспокоит, – но не в дождь и не в этом конкретном месте. Где-то там, внизу и немного в стороне – большой проспект, масса пешеходов, непонятных, ни на что не похожих машин, и все они категорически отказываются перемещаться по ночам в темноте. Если отсветы уличного освещения меня беспокоили мало, да и было их, честно говоря, не так и много, то вот отблески фар от многочисленного транспорта бесили. В обычный день они незаметны, но стоит пойти дождю, и квартира непредсказуемо расцветает сверкающими росчерками летящих капель воды, переливающихся всеми цветами радуги. Радио, конечно, хорошо, но и спать когда-то надо. А закрытые веки от этой светомузыки не помогают! Если бы завтра нужно было идти на прием к доктору, то к списку моих симптомов добавились бы бессонница и раздражительность, сменяющаяся апатией. Что с меня взять? Псих!
Позвонил Василий.
– Здорово! – я был рад оторваться от выслушивания пошедших на второй круг пустых новостей.
– Ну, чего, был на лекции?
– Ага, пообщались.
– Как он?
– В смысле?
– Ну, был бы он девушкой, ясно, в каком смысле. Я про другое – как он среагировал?
– Как по мне – человек слова.
– То есть?
– Ну, было видно, что не верит, ищет подвох, может, розыгрыш, но терпит. Мне показалось, он решил отнестись к этому как к абстрактной задачке. Какая разница – правда, неправда? Поищем решение в рамках условностей.
– Ну, и чего? Нашли?
– Самое интересное, что пару наводок он дал.
– Давай, колись!
– Сказал, что у офтальмологов – ясно, не в салоне «Очки для бабки» – может быть оборудование, позволяющее снимать состояние фоторецепторов сетчатки.
– Это ты сейчас чего сказал? Переведи.
– Дык, думаешь я понимаю? Хотел посмотреть в Сети, а тут – дождь.
– Какой дождь? Солнце целый день! – Васька помолчал, молчал и я. – А-а, понял, извини. Вспомнил, он тебе на любимый экран пялиться мешает. Да-а, – протянул он, – тоскливо. Ни тебе новостей, ни порнухи, ни Википедии!
– Васька, кончай! Он имел в виду, что если я что-то вижу, чего другие не видят, но на сетчатке это отображается, не непосредственно, не как свет, а через возбуждение этих самых рецепторов, то это можно снять. Ну, типа, сфотографировать. Поляризованный свет, туда-сюда. Понял?
– То есть можно будет доказать, что ты не спятил?
– Ага.
– Оно тебе надо?
Вопрос прозвучал странно, я насторожился:
– Ты чего там, гад, бухаешь?! В одно рыло?! Алкаш, что ли?!
– Вот не надо! Я чту. Пару пива принял после километровой грядки картошки. Если бы ты ее столько извлек, небось в хлам нажрался бы!
– Картошки?! У бати что, завод отобрали?
– Это теща, – прошипел Васька. – Обещал. Вот, затащили.
– Сочувствую, – я был искренен. – Две бутылочки за такое маловато будет! Магазин далеко или?..
– Или.
Вздохнули почти синхронно.
– Что им, картошки на рынке мало? – поинтересовался я.
– Не скажи. Совсем другая субстанция, – взялся защищать бесцельно погибший выходной друг.
– Верю, верю! – поспешил срубить его на взлете, пока он не соблазнил меня изменой пельменям.
Опять вздохнули.
– Чего делать будешь? – поинтересовался Василий.
– Искать знающего офтальмолога. Что еще? У тебя, случаем, нет такого?
– Не, ты же знаешь. Мы к медицине никаким боком.
– Ну все же? Профессора, научные сотрудники – может, у кого знакомый есть?
– Ладно, поспрашиваю, – Васька замолк на мгновение, спросил: – А может, тупо записаться на прием, объяснить, что да как. Может, дело-то плевое!
– Чего-то, Вась, я устал объясняться. Могу даже рассказать, что будет, стоит мне только начать, – надо?
– Да не, Стёп. Спрошу, конечно. Просто подумал: к чему такие сложности? У них прием платный, все равно, что проверять. Может, простейшее решение сработает? Типа: сестра, посмотрите мне в душу! Она такая: что я там вижу?! Ты: это мое сердце! Не, не так – это свет в зазеркалье!
– Трепло! – невольно повторил я любимое словечко бывшей.
В трубке зашуршало, раздались отдаленные голоса, вернулся голос Васьки:
– Стёп, я пошел. Ужин. Свежий урожай потреблять буду.
– Давай, дорогой! Приятного аппетита!
– И тебе не болеть! – отозвался друг, и связь прервалась.
Показалось, что дождь «там» стал редеть, капли измельчали и поблескивали совсем жидкой проносящейся дымкой. Хорошо бы закончился – хоть высплюсь.
Поднялся с любимой кровати, добрел до большого картонного ящика, так и не распечатанного с самого переезда. Делать нечего, от радио тошнит – посмотрю, что за сокровища я не посчитал нужным в свое время выкинуть.
Ага, это с работы: программатор, куча флешек, кабелей, пара блоков питания, микрокомпьютер, какие-то переходники, адаптеры… а это что? Тот самый пропуск – безжизненный кусок пластика. Естественно, мне было не до него, и фармацевтам я его так и не вернул. Покрутил в руках – попробовать, что ли, вдруг работает? Вспомнилась еще одна, подсказанная Сосновским, идея – проверить своим болезненным зрением то место, где все, очевидно, началось. В голове закружились картинки из голливудских блокбастеров: вот я, в темном трико и капюшоне, ловко карабкаюсь по кирпичной стене секретного логова самоварщиков, пока моя напарница – почему-то это была не Наташка, а одна голливудская звездочка, мелькнувшая недавно в свежем вареве кинофабрики, – отвлекает охрану и обесточивает сигнализацию. Я позволил воображению разгуляться, и в следующем эпизоде уже лежал, закованный в наручники, ночь блестела синим и красным, а злой полицейский с неприятным запахом изо рта орал на меня, требуя срочно сдать пароли и явки.
Вздохнул, но выкидывать пропуск не стал – в голове зрела идея, чем занять накатывающее одинокое воскресенье.
Звякнул дверной замок. Кто в гости ходит по ночам? Толик. Кто же еще? Открыл не глядя.
– Здорово шизикам! – Толик всегда жизнерадостен, но чувством такта или воспитанием не отягощен.
– Привет, – бросил ему, отходя по узкому коридору. – Вот, – протянул пакет с лекарствами.
Толик аккуратно пересчитал коробочки, проверил дозировки и число пилюль в каждой упаковке, разве что не вскрывал уныло цветастые картонки. Он вообще балабол и подвижен, как ртуть, всегда готов на любой, как он выражается, движ, но к деньгам относится с удивительной скрупулезностью, на пару минут обращаясь в иного человека.
– Ага. Норм. Держи, – он ловко извлек из заднего кармана джинсов деньги.
Забрал, молча кивнул, пересчитав, – честно, было безразлично, но интуитивно чувствовал, если не сделаю этого, упаду в его глазах ниже плинтуса. Хорошо еще, что он уверен: я кошу под психа по каким-то тайным причинам – то ли от армии спасаюсь, то ли еще от чего посерьезней.
– Ну чё? Как жизнь?
Настроение соседа меняется мгновенно. Только что сосредоточен и молчалив, в следующее мгновение уже готов сорваться в любую авантюру. Брякни я сейчас что-нибудь интеллигентское, вроде «Чашку чая?», и он ринется на кухню, будто чай – любовь всей его жизни.
Только этого мне не хватало, потому ответил меланхолично неопределенно:
– Хрен ее знает. Идет где-то.
Для Толика это перебор – почти философия. Всмотрелся в меня, хмыкнул, покрутил носом, будто вынюхивая что-то, но я еще даже любимые пельмени не варил, так что пахло в квартире только старой мебелью. На секунду застыл, всматриваясь в неуместный для старой хрущевки высокотехнологичный холодильник, обернулся, споткнувшись о мое спокойное ожидание, засобирался:
– Ну ладно. Звони, как очередную порцию отоваришь.
– Так договорились же. Позвоню, конечно, – я сделал шаг вперед, выдавливая соседа, и тому не оставалось ничего иного, как пятиться.
Все же он был бы сам не в себе, если бы не сделал еще одну попытку:
– А чё доктора-то? Прописали?
В переводе на обычный русский это значило: «Диагноз поставили?», причем в значении именно положительном – он не сомневался, что я страстно жажду долгожданной отмазки от любой, как ему казалось, ответственности.
– Я уже говорил, Толь, – кочевряжатся. Говорят: понаблюдать надо. Ничего не изменилось. Наблюдают.
Припертый между тем ко входной двери, сосед наконец сдался:
– Ладно, бывай! Побегу – дел много.
Запер дверь. Дождь снова усилился, капли то гасли, превращаясь в туманную тень, то ярко вспыхивали отблесками чужого света, наискось пересекая крохотную прихожую. Было два варианта: плестись на кухню готовить пельмени или залезть в душ – там эта водяная феерия была бы вполне гармонична.
Решил: в душ, но не успел – снова ожил телефон. Васька, что ли, оперативно управился с дарами сырой земли и жаждет подробностей моего общения с физиологом? Нет, номер незнакомый.
– Слушаю вас, – сухо бросил в трубку, ожидая приглашения к стоматологу или общения со службой безопасности очередного банка.
– Степан! Думала, уже не дозвонюсь! Это тетя Аня.
О как! У мамы была сестра. Точнее, есть, эта самая Анна Георгиевна. Еще в молодости, которая помнила костры пионерии и комсомольские собрания, вышла замуж и уехала то ли в Саратов, то ли в Самару – никак не мог запомнить. Последний раз видел ее на похоронах. С тех пор ни слуху ни духу.
– Здравствуйте, Анна Георгиевна.
– Анна Георгиевна, – недовольно протянула она. – Ну что ты как неродной! Тетя Аня.
– Хорошо-хорошо, – легко согласился, мечтая побыстрее отделаться.
– Стёп, мне только недавно рассказали, что у тебя случилось. Кошмар какой-то! Как ты? Как себя чувствуешь? Расскажи. Мне сказали, что вы развелись, и она квартиру у тебя отсудила. Ты сейчас в бабушкиной? Один? Ужас! Ну, что ты молчишь?
Интересно, какой доброхот с ней связался?
– Теть Ань, все совсем не так, – я помолчал, добавил: – Ну, не совсем так. Мы действительно развелись, это правда. Но никаких судов не было, и Наташа ничего не отбирала, как вам кто-то наплел.
– Как же не так? – умудрилась не согласиться со мной тетка, которую, если встречу на улице, точно не узнаю. – Квартиру у тебя ведь забрали! И эту заберут. Воспользуются твоим положением, вот увидишь! Хорошо, что до меня дозвонились, а то бы…
Вынужден был перебить объявившуюся родственницу:
– Теть Ань! Каким таким положением?
– Как каким?! Ну, ты же заболел… – неуверенно полувопросительно протянула тетка.
– Кто вам это сказал?
– Мне из собеса звонила хорошая знакомая.
– Не знаю, что такое собес и почему они распространяют слухи. Скажу лишь – вам соврали. По старой квартире: она была в ипотеке, мы, когда стало ясно, что разводимся, заключили мировое соглашение с банком, даже получили деньги кое-какие. Но вас в любом случае это не касается – уж извините!
– Никаких мировых соглашений они заключать с тобой не имели права!
– Почему это?
– Потому что ты болен! Ты не понимаешь, как тебя дурят!
Я ошарашенно молчал. Мотивы звонка стали очевидны, но напор и железобетонная уверенность в ее версии событий ставили трудную задачу – многословно объясняться или игнорировать, рискуя заполучить кучу нежданных проблем от активных родственников.
– Теть Ань, я абсолютно вменяемый, и мне не нравятся ваши намеки на мое здоровье. Чтобы вы не наделали глупостей, хочу предупредить, что решение о каких бы то ни было ограничениях в дееспособности принимает суд. И если вы решите объявить меня, как вы выразились, больным, обращайтесь туда. Я в вашей опеке не нуждаюсь. И как вы, может быть заметили из нашего разговора, вполне способен самостоятельно отвечать за свои поступки.
– Стёпа! – голос тетки звучал трагично. – Ты не понимаешь! – она театрально вздохнула. – Ну да ладно. Я беру билет на понедельник, во вторник буду у тебя. Там и поговорим.
– Зря деньги потратите! – не мог скрыть раздражения, даже озлобления. – Ни о чем я с вами разговаривать не собираюсь! Во всяком случае, о своей жизни. И еще. Кроме билетов, озаботьтесь, пожалуй, еще и бронированием гостиницы. У меня нет ни возможности, ни желания размещать вас в своей квартире!
Трубка что-то забормотала, но я уже отдернул ее от уха и надавил «отбой». Вот ведь геморрой на ровном месте! Жил себе не тужил! Самое интересное, что хотя я и катил порой бочку на врачей, но претензии у меня были скорее не к ним, а к системе. Кто не сталкивался, тот и не подозревает, что стоит врачу некоторых специальностей выписать вам больничный, как, не спрашивая вашего согласия, вас уже ставят на учет в интересном учреждении, который прямо гарантирует вам разнообразные и неожиданные проблемы в будущем. Когда я впервые с этим столкнулся, пожилая сестра, сокрушенно вздохнув, объявила, что мне, оказывается, еще повезло, а были времена, когда к ним на учет можно было загреметь и с банальным сотрясением мозга. Так что, даже так и не заполучив окончательный диагноз, я уже числился психом, если можно так выразиться. Государство любит интересоваться здоровьем своих граждан – ну, там, при приеме на некоторые виды работ, на службу, при выдаче прав или разрешений, и при всяком таком случае запрашивает справочку о здоровье соискателя. Вот я уже и столкнулся со всеми прелестями получения этого документа при наличии учета в психоневрологическом диспансере. И ведь при всем этом я считался полностью дееспособным гражданином. Просто иногда мне теперь предстоит доказывать, что это так.
Дождь почти утих, я забрался в душ, ощущая, как горячая вода смывает раздражение недавнего разговора.
Что касается лечащего врача, тот прямо заявил: «Вы, Степан, полностью вменяемы. Вы осознаете, что ваши галлюцинации ненормальны, и даже обратились за помощью по собственной инициативе. Типичное поведение невротиков. Психи обычно уверены в собственной картине мира и скорее склонны окружающих считать нездоровыми. Это не всегда так, но сразу скажу, что доказать вашу невменяемость в суде не получится, вздумай кто-нибудь заявить об этом. Я бы, например, вас таким никогда не признал».
Проблема с доктором одна – «галлюцинации»! Для него мои видения – порождение больного воображения. Он вот считает: я осознаю их «ненормальность». Но понимает ли он, что при этом я самого себя считаю нормальным? Может, я и правда псих, если убежден в реальности того мира?
Сейчас-то я уже приспособился, научился маскировать собственные реакции, а представьте, как это выглядело, когда я только пришел к нему в первый раз. Сидит всклокоченный такой пациент и ошалелым взглядом провожает что-то в воздухе, едва реагируя на прямые обращения. Да-а… Если учесть, что я тогда систематически не высыпался, не мог работать, и череда разнородных проблем колотила меня по напряженной черепушке, подобно барабанщику, то придется признать: выглядел натуральным психом. Собственно, поэтому я никогда не осуждал Наташку. Напуганы были оба. Но хватит!
Выключил душ, обтерся и наконец сообразил, отчего настроение, вопреки усилиям далекой тети, улучшается – дождь закончился. Можно поработать и спокойно выспаться. А завтра надо будет кое-куда наведаться.