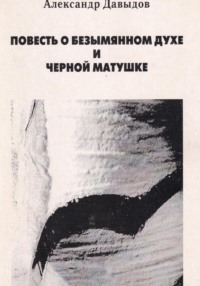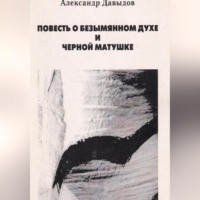Полная версия
Свидетель жизни
Тем временем, я угодил в позднее средневековье. По краям дороги рядками выстроились замки, – еще недостроенные, они казались уже в руинах. Упадок обогнал чуть забрезживший расцвет. Помнится, средь роскошных савойских взгорий их вздымали ввысь продуманные складки местности, и взгляд восторженно шелестел подлеском, спадая в сверкавшие озерками долины. Пейзаж был словно создан великим декоратором. А он подумал, что ничего не способен создать, кроме скудости. Вокруг царило, верней, увядало, торопливое средневековье, без накопления сил и не пронизанное духом. Что твердыня без простора вокруг? Что средневековье без высокой мечты, горней тоски и широких пространств? Тут замки жались один к другому, однако и в них выражалась мечта, порожденная незрелым чувством, – чья-нибудь мертворожденная греза. Не еще ль более диким, чем мой, порывом к свободе? Не дописав последнего слова, он сломал спичку.
Женщина нежданно проснулась. Должно быть, женщину разбудили выстрелы, и она испугалась. Было даже странно, что полуживое существо доступно страхам. Я издавна подозревал, что в страхе – зародыш высоких чувств. – Сверни на проселок, – посоветовала женщина. Проселки ветвились, как древесная крона, и в каждой развилке таился счастливый случай или беда. И мне уже наскучило убогое средневековье, с его ритмами вытянутых рядком руин. Да к тому ж пуля звякнула по капоту. Я свернул наугад, и мы оказались в разоре другого рода – убожестве древесном, средь ослепших избушек. Деревни дремали на обочине средневековья. Не брехали деревенские псы, отдав селян на волю ночному злодею. Небеса, чуть освещенные прятавшейся меж облаков луной, нависали угрюмо и грозно. Горнее бдило, и сочувственный глаз соглядатая мерцал среди туч.
Однако и меж унылых деревень обнаружилось живое место: то сверкал огнями сельский бар. Уж он-то не был принадлежностью моих воспоминаний, сам собой расплескивал по ночному простору не чересчур мелодичные звуки. Моя эпоха – захарканных танцплощадок, впрочем, тоже манивших. Я не удивился, что женщина вдруг стала подпевать музыке, хрипловато и монотонно, как механический органчик. – Хочу пить, – сказала женщина, впервые выразив желание. Было безумие появляться на людях, где соглядатаев целая рать. Я, конечно ж, всегда чурался толпы с ее разноголосицей чувств, а сейчас, как никогда прежде, – однако притормозил. И сразу, распахнув машинную дверцу, вытянулся во фрунт русоволосый юноша, или, скорей отрок, – очень был молод и не слишком нахален. Выпалил бойко: – Наконец-то приличных занесло, а то шваль одна.
Отрок был одет странно, – или мне показалось. Мне ведь недосуг разглядывать людей, фантазия всегда наготове. Он был одет в ресторанный чуть лоснящийся фрак, а на ногах – лапти. Тому, что меня принимают за приличного, я уже устал удивляться. Казалось, весь душевный разор должен бы сделать лицо обмякшим и жутким, нарушить пропорции черепа, оттиснувшись изнутри головы. Страшась зеркал, я себе виделся чудовищем. Однако сильней оказалось не глубинное, а внешнее, – уклончивость, с которой я стремился избежать чужих утомительных чувств. Наверно и впрямь я сохранил благопристойную внешность, до странности незапоминающуюся. Трудно соглядатаям, если меня перепутаешь со множеством сходных. В лице с годами должно бы более явственно проступать именно личное; оно же становится все обобщенней, подобней другим. Возможно, и отрок меня с кем-то перепутал.
Я оглянулся на женщину. Еще недавно молчаливая, как смерть, – и, словно, полупрозрачная, подобно призраку, – она обретала плоть и желания. Женщина проспала средневековье и угодила в Рим еще далекий от упадка, ибо сельский бар, – наверняка прежний клуб, – был украшен классическим портиком, сиявшим перебежкой пятисветия. У себя дома я прятался в темноте или зажигал свечи. – Хочу пить, – настойчиво повторила женщина. Теперь в ней обнаружилась и чувственность. Вот уж не предполагал, – до сих пор мы с ней были холодны, как пара манекенов. Я ведь тоже сейчас и не жив, и не мертв. А если чем и вдохновлен, то лишь побегом. Юноша глядел на нее немного похотливо, – возможно, она была только чуть постарше него, хотя иногда казалась старухой.
Надо признать, я устал от побега, и простодушный бар не показался мне коварным. Мой недремлющий враг должен бы чураться такой сельской простоты. Каблучки трижды цокнули по мраморным ступеням. Юноша распахнул дверь. А я, – вот дурацкая подробность, – утопил в луже правый ботинок, и в темноте не отыскал. Пришлось явиться в зале, словно греческому герою, оставляя след замаранным носком. Мне всегда казалось, что я значителен, у всех на виду, оттого бывал слегка патетичен и скован телесно. Теперь я, возможно, был смешон, однако никого не позабавил. Бар бурлил нехитрой гульбой: здешние ковбои были, как один, пьяны в лоскуты, девицы – скучные пригородные профурсетки; мужичок в новых сапогах плясал камаринского; грустный негр наяривал на гармошке. Бармен с бельмом в глазу смешивал напитки. Юноша всех оглядел с привычной брезгливостью. Женщина, оказалось, хотела не пить, а выпить. Отрок показал выучку: шампанское отворил беззвучно и разлил в бокалы, не расплескав. В очаге дотлевали угли. Я подумал, что огонь опасен для бумажного мира. Скоро женщина сделалась пьяновато-весела, приговаривала: – Здесь миленько, тут славненько.
Оттаяв после горней стужи, оказалась пошловата. Впрочем, наверняка, умела быть всякой. Я впервые обратил внимание на ее одежду, столь, как мне чудилось, ей подобал траурный наряд. Платье оказалось голубоватым, – по крайней мере, нежного тона, – я психологический дальтоник, равнодушен к оттенкам цветов. Но платье, видно, тоже умело быть разным. Оно казалось не само по себе, а будто живой кожей, которую сдери, – и женщина просыплется на пол древесными опилками. Я прятал под столом ногу в пахучем носке. Исписав очередную спичку, бросил ее в угол. Женщина напевала нечто дикое, вроде: «Траля-ля-ля-ля, далеко страшные поля». А все ж они оставались под боком. Сквозь всхлип гармошки доносились выстрелы, и морды убитых зверей щерились с каждой стены. В темноте лицо женщины мне виделось совершенным, столь гладким и юным, что не давало зацепок памяти. Оттого оно и казалось безжизненным, – без вех проживания, лишь с вуалеткой грусти. Теперь на нем проступили земные изъяны, и я подумал, что сумел бы ее полюбить. Он был всегда преисполнен любовью, но скаредно ее хранил при себе, не расплескивая. Она была чиста и холодна, как снег вершин, вовсе лишенная слюнявой нежности. Его осеняла лишь высокая грусть Богоматери Одиночества, – для него, то женское, к которому влекло припасть.
Женщину, сидевшую рядом, он подхватил, как злокачественный вирус. Не на предутренней ли дороге, веселую подружку дальнобойщиков? Или женщина всегда была рядом? Сперва он принял ее за свою тень или морок, теперь она казалась просто красивой женщиной, – с изъянами, что придают прелесть. Что меня дернуло, впустить в свое одиночество незнакомку. – Угадай, кто я? – предложила женщина. Сумей он ответить, то понял бы почти все в собственной судьбе. Он глядел на женщину, а та множилась и ветвилась сотнями лиц и личин, вплеталась в лиственный узор. Я сознал, что она единосущна моей тоске. – Кто я? Кто я? Как меня зовут?– насмехалась женщина. И он понял, что любая, какая ни на есть, она противится стать персонажем, и расхотел быть писателем. Искорябав спичкой очередной коробок, я сжег его на свече. А та оплыла почти до конца, разбрюзгла на блюдце узором, по которому возможно угадать судьбу, – но не хотелось.
Женщина казалась простовата, и лишь напускала на себя тайну. Почему б ей не быть дешевой осведомительницей моих изобретательных врагов? Прогнать бы ее прочь, но не отвяжешься от собственной тени. Она и впрямь – мой морок, податлива, словно воск или греза, лишь повод для моих разнообразных чувств, оплетавших женщину лиственным узором. Ее волосы были черны, или выкрашены в черные, – все ведь в ней казалось ложным, точней податливым. Ресторанчик почти опустел; ковбои разбрелись по ночным дорогам; негр спал, уткнув лицо в растянутые мехи гармоники. Горбатый мальчуган заметал в углы сор и окурки. Забрался под стол, женщина сладко всхипнула, я пнул его той ногой, что в ботинке: – Пошел прочь, гаденыш.
Он оказался не мальчиком, а лилипутом. Не хотел уходить, а вертелся рядом, как тоже морок и тень. Вот удобнейший соглядатай, – одновременно и старец и мальчуган, незаметен и нестрашен. Так я подумал и вспомнил, что ведь и я будто родился стариком, приманивал будущее, страшился детства. Оттого и не вырос, – в младенчестве был не наивен, в зрелости – не мудр. Простейшие метафоры подхватываю, как дурную болезнь, и существую, окружен ими, будто настоящей жизнью. Однако, угроза подлинней некуда. Вечно бдит каждый мой грех, – и всяк облечен плотью. Всякий из них стар и каждый свеж. «Если б не смертельная угроза, моя жизнь стала бы и вовсе бутафорской». Так подумал я, когда ветер донес шелест бумажных трав. Свеча погасла, то ли догорев, то ль ее задул малыш, – а может, ветер. Я встревожился: не угодил ли в простейшую ловушку, с моей-то изворотливостью и уклончивостью, уменьем избегать и убегать. С детства я страшился темноты, но искал в ней и защиты. – Ну где ж ты, враг, – крикнул я, – приди взыскать с меня долг, а не томи тревогой!
Женщина сидела рядом, – в перебежках пятисветия вновь казалась совершенной и мертвой. Я всегда был нетерпелив, тяжко переносил разрывы существованья; все пустоты жизни норовил заполнить суетой. Если и не телесной, то суетливой мыслью. Теперь ожиданье сгустилось, впрочем, лишь драматичное, пока не трагическое. Сюда не доносились ветры с опасных полей, но ведь угрозу я нес в душе, – или мелкий повод мог разворошить осиное гнездо моих страхов, древних, как мир, как я сам. Я не искал защиты, даже и не подумал вновь пуститься в побег. Женщина, ткнула меня в колено острой туфелькой, напоминая, что жива. Тревога, было, раскинув черные крыла, свернулась в клубок и примостилась поодаль. Карлик зажег свечу. При свете вновь показался мальчиком, если его не подменили. Мальчуган или карлик, он был мне противен, хотя стоял смирно и ничем не угрожал. Еще сметет в совок и закинет в мусор. Так я подумал и отобрал у него горелую спичку. На коробке поставил многоточие, как знак отмененного события.
Неожиданно опять взыграло задремавшее, было, веселье. Охотники в тирольских шляпах толклись у стойки, смердящие кровью и порохом. Оружие они сложили в козлы. Расселись, говорливые и наглые. На серебряном блюде распластался зажаренный в шкуре кабан. Негр, отложив гармошку, теперь выдувал из флейты пастораль. Женщина привлекала общее внимание. Пригласили на танец; она кивнула, у меня не спросясь. Женщина танцевала, будто кукла, – без наслажденья, но упоенно. Мужик из охотников нагло обминал ее обеими пятернями. И впрямь самая настоящая придорожная шлюшка, – а я уж вообразил.
Сколь всегда я ни насторожен, бывает опасность себя не предваряет, не подает мне знака. Тут она обернулась парнем в бандитских штанах. – Павелецкий? – спросил, подмигнув. – Нет, Иванов. – Это была фамилия моей бабушки – Значит из савеловских, – почему-то решил парень, и помолчав, сообщил: – Ливера замочили. Менты кинули, они с Ханом – по нулям, а у нас облом. И черные наезжают. Ваших развели, но товар-то проплачен.
Совсем уж постыдный бред. Я подумал, что ввек не избавлюсь от простодушных фантазий. Хуже всего нарваться не на свою, а на чужую смерть. Я избегал не гибели вообще, – коль всем должно, – а невыразительной и случайной. Оттого и пустился в побег. Видно парень принял меня за другого, – вот ведь что значит внешняя невыразительность. Но, следовательно, не слишком я благообразен. Бандитская тарабарщина противилась письму, и я на сигаретной пачке прочертил его профиль, вышло похоже. Видом он был дик и неопрятен, будто годы томился в куче душевного мусора. Метафоры моего ужаса иногда кривляются и дурят, как следствие пристрастья к бурлеску. Парень, однако, вовсе не собирался меня убить, даже оказался услужлив. – Что босой? – спросил он. – В грязи утопил, – ответил я, взгрустнув о ботинке: для меня старая обувь – самый настойчивый символ одиночества и заброшенности. – Найду, – пообещал парень. И действительно вернулся с моим ботинком, но почему-то не возвратил, а поставил посреди зальца. О него и запнулись танцоры. Из-за того ли они поссорились или начали ссориться раньше, но охотник вдруг обозвал женщину сукой. Та воздушным балетным па, повергла его наземь, – как я и подозревал, оказалась вовсе не беззащитной. Готовилась большая драка с перестрелкой. Браток аппетитно свистнул в два пальца и достал из-за пояса беретту, довольный поводу пострелять. Деревенские костоломы, было, оробевшие, отыскивали финки за голенищами. Охотники деловито разбирали ружья. Первый выстрел, однако, раздался где-то сбоку, – прозвучал голо и непристойно. Оказалось, то вовсе не выстрел, а треснул пополам кабан на серебряном блюде, разродившись связкой сосисок. Потом он взвизгнул отчаянным железнодорожным свистком, чухнул, крякнул, а затем иссяк, скукожившись шкурой.
– Бери девку, и наверх, – скомандовал браток. Первой пулей он разнес люстру, окропив пол хрустальной крошкой. Сельские крали захлопали в ладоши. Я успел подхватить ботинок. Прежний отрок в лаптях освещал нам путь свечкой, едва разгонявшей темноту. Та восковыми каплями обжигала ему пальцы. Пьяноватая женщина раскачивалась по сторонам, задевая стены узкого коридорца. Все двери были заперты на амбарные замки. Юноша отворил одну. Ботинки я оставил за дверью. Комната оказалась проста: фарфоровый рукомойник и железная койка. Видимо, я сильно устал и оказался неспособен примыслить достоверные детали. Но и всегда был равнодушен к быту. – Зелень вперед, – потребовал юноша, и я ему отсчитал, сколько надо. Затем швырнул в ночь еще одну исписанную пачку и затворил окно.
Убийство
Комнатка казалась безопасной, – словно трепетный миг, замурованный в вечность. Враг таится среди подробностей, а комната гола. Тут бы вспомнить мой закоульчатый дом, будто б состоящий из одних деталей, без общего смысла, – иль тот был невыносимо глубок. Дом был не един, а розен, не одновременен – с провалами в прошлое и порывами в будущее. Утомлял ненужной сложностью. Я обжил его всей душой, и дом стал мне подобен, – слишком уж охотно отвечал всякому душевному изгибу. Стал почти тем же, что панцирь для черепахи, – но не упасал, а увлекал к безумию. Он покинул обжитый дом ради ночных полей, хотя прежде чурался слишком обильных пространств, находя в простейшем и скудном все необходимое для устроения души, – а в обширном теряясь. Ему казалось, что подробности перешептываются одна с другой помимо него, умножая тайну. Наверно и впрямь он мог бы стать писателем, но избрал иное. Он томился, попадая в силки непроистекавших мигов времени; иногда представлял собственное нутро состоящим не из живых кишок и ливера, а как подполье своего дома, где сквозь сплетенье железных труб неравномерно протекали воды. Может, это безумие ходило за ним по пятам неведомым соглядатаем. За окном, в сырой ночи, сквозь собачий брех он слышал человеческий шепот.
Книг он давно не читал, хотя прежде верил чужим фантазиям больше, чем жизни, да и сам заражался вымыслом, – оттого его мир и сейчас шуршал бумагой. Теперь книги были повернуты к нему спиной тисненых переплетов, – считанные сантиметры прессованной бумаги, отделявшие взгляд от стены. Он изредка брал их наугад, но там, где прежде, в детстве, приоткрывался значительный, своевольный мир, теперь казалось все знакомо и покойно: ровные ряды строчек, ложный уют уже укрощенной кем-то жизни. Он и сам пытался писать, – на оборотах банковских счетов и фирменных бланков, – но словно невидимый враг толкал его под руку, ломая строки; вился меж них, шарахаясь от скрипучего пера. Нет, у меня не хватило сил обуздать жизнь пером, придать порядок вороху безысходных мгновений. Он поставил точку и забросил пустой коробок под кровать.
Внизу бахали охотничьи ружья, им звонко вторила беретта. Женщина легла на койку, не раздевшись. И ей спасибо – лишенная кожи, она бы тотчас разлетелась соломенной трухой, а, возможно, просыпалась грудой забытых черновиков. Я прилег рядом, и, как обычно, погрузился или вознесся в таинственный мир полусонных, напитанных символом мыслей, когда ты словно поодаль себя, и, кажется, вот-вот поймешь смысл самого тайного, от чего зависит вся жизнь, – то, что свершится после. Там и грозный соглядатай угадывается в, казалось, незначительном облике, – и он не страшен. Я чувствую, что унялся ужас, и понимаю, что символы духа покойны, они сатанеют, когда трутся об жизнь своим дремлющим фосфором; разгораются огоньком, выхватывающим из мрака искаженные лица. А может, вовсе и не важнейшее реет в моем полусне, а так, отстой дня, случайное жизни.
В полусне мне часто видится мой покинутый дом. Я строил его простодушно, а он оказался метафорой: каждая емкость имела определенный смысл, – а общего недоставало, – всему находилось соответствие в моей душе. Может, и средневековье, которое мы миновали средь опасных полей, отзывалось разору диких душ. Мой дом откликался эхом всем местам, где я прежде жил, всем людям, меня покинувшим, прежде соблазнив жизнью. Каждая опустевшая емкость чудилась мне упреком, – моим ли, иль ко мне обращенным. Как обитать в доме, где словно б в стенах замурованы смертники? Он весь будто болотце застоявшейся жизни, загнившее, подернутое ряской. Многие, многое кануло без следа в омутах моего жилища. Лишь ветхая старушка задержалась дольше других, – пестовала меня, как в детстве, пела про светлого ангела, чтоб мой сон был спокоен. Старуха была изможденной постами и богомольной. Она оставалась последним свидетелем моего младенчества; о чем я не успел расспросить старуху – кануло. Впрочем, она казалась беспамятной, обращаясь в возвышенном круговороте священных событий. Старушка не высказывала своих суждений, но те были тверды. Вряд ли б она одобрила, что я похоронил ее в хрустальном гробу возле святых праведников. Бритые парни, выстроившись в ряд, неумело перекрещивали животы. Главный охранник, вытянувшись во фронт, клал поклоны с военной четкостью, хотя, кажется, был иной веры. В тот день я напился до чертиков и палил по воронью, обсевшему крыши. Я часто стыжусь мелкого, прощая себе большую вину.
Я покинул дом, не затворив двери, – пускай в нем водворится окрестный простор, обживется трава, мхи позеленят ненадежные стены. Невеликая жертва, оставить опостылевший дом врагу. Теперь мне стала милей прежде опасная ночь просторного поля, исполненная женскими голосами. Я унес свой грех и вину, – да и все, что оставалось, – в тесной котомке странника. Бегу струйкой вдоль земляного ложа иль по линии руки, а соглядатай пока еще не настиг, но всегда рядом. Вот и женщина рядом, – враг она или друг? Сейчас лежит, безгрешна, бесплотна, не желанна и дышит тихо, как не дышит вовсе. И впрямь кто она? Зачем прильнула к моему страху? Мне кажется, что для нее подчас наслаждение глядеть в мои смятенные глаза. Да и верно ль, что она женщина, а не моя тень? Ничего о ней не знаю, и берегу свое неведенье, – всегда ведь боялся темноты, но избегал света.
Бой уж выплеснулся во дворик. Но теперь война обернулась праздником. Охотники палили в ночь трассирующими пулями; те рассыпались в воздухе красой фейерверка. Доносились клики «ура», браток, оставшийся в живых, реготал от восторга. Крякали охотничьи манки. Враг, подвывавший за печной вьюшкой, притих, озадаченный праздничной канонадой. Я вдруг ощутил влеченье к женщине, почти инцестуальное, ибо в ней мне почувствовалось нечто давнее, пронзительно детское. На этой женщине почил отсвет моей инфантильной мечты. Запретное чувство, всколыхнувшись, кануло. Женщина теперь лежала раскинувшись, выражая готовность, но не страсть. Она даже протянув руку, попыталась наскрести хотя б щепоть моего вдохновенья, но тщетно. В ней самой похоти было не больше, чем в кукле из порношопа. Он подумал, что комната и женщина, равно лишенные подробностей, возможно, хитрая уловка врага. Они томят чувство, и враг ждет, что мне станет тошно в опорожненном мире. Тут я выйду к нему сам и благодарно подставлю под нож свое обнаженное горло.
За окном праздник истек, словно шампанское из опрокинутого бокала. Сопел грузовик, увозивший охотников, горланивших в ночи свои буйные песни. Карлик внизу звякал разбитой посудой. Женщина обмусоливала губами нежные слова, отзывавшиеся угрозой. Было ошибкой заснуть, отдавшись на волю врага. Женщина может пронзить мне шею одной из бронзовых шпилек, чем закалывает волосы, а гибель во сне худшая из худших, – так и остаться средь сонных грез, будто и вся прошлая жизнь – вымысел. И все ж я заснул под лепет нежных угроз, а проснулся жив, как и всегда случалось. Женщина стояла у окна, расчесывала свои ведьмацкие кудри. Ее лицо будто совсем стерлось. Но, стертое, выражало недовольство мной, даже бормотнула: козел. Возможно, послышалось, но ведь я точно помню, что избежал соблазна. Сколь была б ужасна похотливая страсть двух полумертвецов. Во сне я был беззащитен, женщина могла б меня оседлать, как ведьма помело. Тогда б глухо и грозно взыграли мои раньше безгрешные сновиденья. Куколка, дешевая шлюшка, наверно, сама заснула, и ночь ее была пустынна. – Собирается дождь, – сообщила женщина, не более провидчески, чем мое ставшее с годами приметливым тело. Я выглянул в коридорчик, откуда давно уже слышал навязчивый шорох. Лилипут, мальчик, соглядатай, – пойди догадайся кто он? – надраивал ваксой мои башмаки. – Хорошо спалось? – спросил. Я кивнул, – и впрямь с тех пор, как пустился в побег, не спал слаще. С радостью отметил: привязчивая головная боль меня так и не настигла, – верю, что отвязалась навечно. – Уй, уй, что творилось, – посетовал мальчуган. – Здесь каждый вечер так.
Я перешагнул через него, – уборная оказалась рядом. Вот оно, безопасное место, куда побрезгует проникнуть враг. Век бы там прятался, но я стыдился отправлений тела, да и всегда был им обременен. Коридор оказался пуст. Я обул надраенные башмаки и спустился в ресторанчик, где уж не осталось следов недавнего праздника; только стены кой-где помечены пулями, а в углу запеклась кровь иль загустело вино. От кабана остались одни косточки и пара клыков. Военные действия не помешали бойцам подкрепиться. Женщина, уже опять в трауре, шепталась с юнцом, обновившим лапти. А может, вовсе они не шептались, – мне ведь, подозрительному, вечно мерещился свистящий шепот за спиной. Они молчали, склонившись друг к другу, – так застыли неподвижные. Я нашел в пепельнице вчерашнюю пачку и попытался записать свои сны, – не те яркие, что нисходят в расцвете ночи, а неуловимые и важные виденья полудремы. Как обычно, не вышло, тогда я постарался наперед измыслить сюжет своей оставшейся жизни. Все кто был вокруг, – раз, два, три, четыре человеческих иль человекоподобных существа замерли, ожидая. Жизнь не единожды замирала у меня на глазах живой картиной. Я боялся перемен, как и могущества времени – грозной богини с когтями на железных пальцах. Сюжет оказался лишен внешней сцепки событий, а глубь бытия оставалась мутна. Мне всегда больших мук стоило остановить чреду событий, – удавалось ненадолго, как и сейчас. Отрок будто очнулся от сна, спросил: – Что будем кушать? – Неважно, – ответил я, но был голоден. – Мымрики с почечуем, – предложил юноша. Я уже устал от нелепиц, – надо ж выдумать такие дурные слова, даже звучавшие неаппетитно, – однако согласился.
Траурная женщина вычерчивала невидимые вензеля коктельной соломинкой. Она вновь припахивала жасминным запахом смерти. Вру, что я не люблю его. Тропинки запахов ведут к прошлому, а этот указует путь в будущее, сулит дивное и опасное приключение. Может быть, потому я и не прогонял женщину от себя, а мирился с ее присутствием. В утренней тоске я вновь оценил свою жизнь и подумал: справедливо, что к ней привязалась неотступная черная спутница. Ее лицо поутру стало зыбким, менялось в перебежках света, делалось моложе иль старше, превращала женщину то в капризную девственницу, то в стареющую стерву. Ее тело, пребывавшее в единстве с платьем, могло принадлежать и юноше-подростку. Признаться, меня волновало это двуполое существо, но волненьем другим, чем любовное. – Как тебя зовут? – спросил я женщину, не ожидая ответа. – Как и тебя, – ответила, усмехнувшись, и вновь черкнула вензель на мокрой столешнице. Носить одно имя, да к тому же общее многим, ему казалось несправедливым, – будь его воля, он бы назвался сотней имен, иных и сам пугаясь.
Вернулся отрок, поставил перед ним блюдо с мымриками. Не рискну их описать, – мелкие такие, противные, не разберешь растительные или животные, – видно, из подводных гадов. Что такое почечуй я так и не узнал, должен и он быть чем-то водяным, – вроде русалочьих волос. – Весь слопали, извините, – ответил юноша. Я указал ему на кровавую лужицу. – Голь деревенская, – осудил отрок, – как нажрутся, палят почем зря. Черножопому Фреду палец отстрелили.
Приглядевшись, я заметил и черный перст, который напомнил мне о парне, красиво ласкавшем флейту. Юноша стоял навытяжку в черной бабочке и лаптях. Этот малый был чересчур вышколен для захолустья. Наверняка мечтает о столице. А может, он и не местный. Кто знает, какой изгиб судьбы, – да, да, и образы моего одиночества тоже не лишены судьбы, – забросил его в сельский вертеп. Если только не… Подозрительно, подозрительно. Тут мне послышалось нечто дикое и странное: «почем твоя девка?». Мог шепнуть парень, не разжав губ. Мне иногда мерещится непроизнесенное, – я решил: и на этот раз, потому не записал тех слов на сигаретной пачке. Однако, женщина, видно, услышала то же и усмехнулась без гнева. Надо было проучить зарвавшегося холуя, запустить в него осклизлым мымриком. Он меня вообразил, что ль, сутенером? Женщина, кажется, раз десять согнула и расправила все свои пальцы. Не слишком дорого. Я подумал, что и впрямь было б забавно предлагать ее каждому встречному. Вот бурлеск из бурлесков. Я захохотал вслух, впервые с тех пор, как в побеге, – а прежде был смешлив. Ковбои у стойки обратили на меня внимание и сами чему-то посмеялись. – Пошел прочь, – сказал я парню тоже без гнева. Потом, записал его неожиданный вопрос на бумажной пачке и отдал ее женщине.