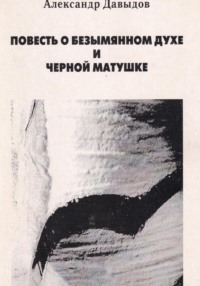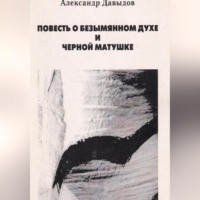Полная версия
Свидетель жизни

Александр Давыдов
Свидетель жизни
Александр Давыдов
СВИДЕТЕЛЬ ЖИЗНИ
Он имел одно виденье
Непостижное уму
Пушкин
Зебра-Е
Москва, 2006
Побег
Я не замысливал побег, – вызревший сам по себе в логике моей жизни, – хотя издавна мечтал лишиться имени и жилья, стать вольным, избавившись от освоенного, но притом навязчивого пространства жизни. Оно было словно исхожено и промыслено вдоль и поперек. Я давно уж стал невнимательным свидетелем жизни. Ее пространство не сулило мне надежд. И вдруг оно стало странным и своевольным, – будто встопорщилось, из почти опостылевшей жены обернувшись капризной любовницей. Возможно тут повинно едва начавшее ветшать тело. Знал бы я, что на него стоит уповать, а не на ленивую душу. Вдруг прервется сердечное биение – и то бывало, словно укол смерти: все бывшее прежде являлось разом, без последовательности, но связно. И могильными холмиками порастало прошлое, а будущее простиралось упоительной сказкой полной тайны и угроз. В моей запустелой душе слишком гулко отдавались события роста, теперь – ветшанья.
Как же я оказался в побеге? И от кого/чего убегаю? От беды мнимой или истинной? От своих ли снов, от злых людей, от вины подлинной или вымышленной? А может, от соглядатая, которого я не так давно заподозрил. И он либо враг, либо друг, либо я сам, но вылепленный из податливой массы моих снов и надежд. Он, по крайней мере, то с кем-чем встретиться смертельно опасно. Будь я писателем, излил бы наверняка весь бред упований и удач, и тогда был бы чист, или хоть пригоден для жизни. Мне, однако ж, не дается сюжет и страшит белый лист, как бескрайнее снежное поле. Вот я чиркаю запись спичкой на сигаретной пачке, и мизинцем невольно затираю прежде написанное. Выходит довольно странное письмо без следа и памяти, лишь простертое вперед. К такой жизни я всегда стремился, – чтоб не оставляла памяти, лишенной вчера и прежде, а устремленной в завтра и потом.
Я склонен поверить, что темное чувство греха запустило корень вглубь нашего безгрешного детства, а затем раскинулось таинственным деревом, в ветвях которого стонут потерянные души. Все ж я уверен, что произрастает оно не из безгрешных мерзостей. Кто ведь не разглядывал пакостные картинки, не теребил свои гениталии, но не каждый удостоен упоительных угроз; не для всякого вина сладка; не в каждой душе выстроен черный город на обочине света. Не любая душа просторна для неверных закоулков, где забытое, оторвавшись от шумящего листвой древа жизни, как та же древесная ветка становится влажным и трухлявым, обрастает зеленым таинственным мхом. В этих склизких местах души не утвердиться, – они подобны смерти, в лоне которой бессильна воля. И вот темная фея-крестная, странная и скрывающая лицо, отвернув его от нас, как Богоматерь Одиночества, навевает нам сны. Как вот и приснился мне, – странен и пугающе ясен: иду по незнакомым местам, и тут вдруг, лопнув со свистом, с меня сползает кожа. Потом слезает и мясо, облетают кишки и все лишнее. Я иду дальше, сверкая вечной костью, а ветер свистит в моих опустевших глазницах.
Ночной ли это кошмар? А может, надежда? Проснулся я в полузабытом чувстве радости. И краем уже просыпающегося сознания успел ухватить затухающую картину. Не знаю, видел ли я ту в музеях или сам выдумал: там был изображен некто, – неважно кто, – запомнился мне жест: вывернутая ладонь, обращенная за абрис, к тому, кого нет. Пальцы были чуть согнуты, оттого скрывали, пуста ль рука, несет ли она зло или благо. И то была явь рассеченного на картины мира. Побег вызрел в глубинах души, как, должно быть, и неведомый соглядатай. Жизнь во мне истончилась, стала субтильна, вся сделалась подобна символам и знакам. В столь многозначительной жизни конечно неуютно, но она и серьезна, они и возвышенна и горька, как великий образ Богоматери Одиночества, скрывшей от нас лицо.
Сигаретная пачка задымилась, должно быть, от прочерченных на ней безумных слов. Говорят цветные сновиденья, как и подозренья в подменах – признак душевной болезни. Мозгоправ, копаясь в моей душе, намекал, что я болен. Может, я и бежал от настигавшего безумия, от сверлящего зуда под черепной костью, что смешивает карты и без того ненадежной реальности.
Природа вокруг была тиха в своей предвечерней грусти и, как и все теперь в моей жизни, символична. Почти музыкальными казались ритмы кустов на исчерченном овражками поле. И в каждой извилине томилась мгла, а скудное поле было почти красивым, все напитанное духом и мыслью. А жасминовый куст, облепленный светляками, уж отдавал красивостью почти картинной. Да, неужто, – подумалось мне, – есть место в небесах, глядя с которого, моя корявая жизнь видится изящной и завершенной. А опасный соглядатай, рожденный детскими страхами – ее глубина и тайна. И тут как раз напомнил о себе один из тех страхов – железнодорожный, пыхающий паром, лязгающий сталью, срывающий шляпы, мечущий в глаза пыльную поземку. Ибо, сперва засвистав, прочухал поезд мимо ближнего полустанка. Я ведь сперва и не заметил, что две стальные полосы разрезали поле надвое, а обе части обладали различием. Но тут пригляделся и к полустанку. Стоило ль удивляться, что он был похож на прежний, полустанок моего дачного детства. Только тот был кудреватей и заманчивей, с тонкой резьбой, обрамлявшей окна пригородного ресторанчика. Правда, кормившего пищей столь грубой и вонючей, что поваров можно было заподозрить в заговоре против детства и уюта. Или, возможно, это капли страха железнодорожного, который поезда разбрызгивали из полноводной поймы, губили пищу, – да и вообще все вокруг заражая неким духом бесприютности. Как вечно чахли, но не умирая до конца, пристанционные деревья.
Куда б не стремил я свой спонтанный, хотя и вызревший побег, наверняка ведь уткнусь в уже бывшее. Не настолько ж я ослеплен гордыней, чтобы требовать от жизни небывалой новизны. Еще и прошедшее не прошло, и прежние тропинки заросли не отмоленным грехом и неизжитой виной. Сам я знаю, что вернусь в тот рай, где вызревает на ветке прообраз любой греховности. А тут еще заманчиво и странно перекликаются предзакатные петухи. Нет, все же есть различие меж двумя полустанками: тот, прежний был обставлен с трех сторон домами, а этот открыт полям. Таится ли смысл в таком различии? Для меня теперь предпочтительно поле – оно безопасней: любой соглядатай виден издалека, и трудно злодею подобраться незаметно. Я сломал спичку. Чем теперь писать? Значит можно отдать коробок вольным ветрам двух полей.
Крещеная татарка
Новый коробок под рукой, и я выжег еще одну спичку. Значит вновь могу обратиться к письму, не ведающему прошлого. Я истиной готов заслониться от правды, которая способна быть еще больше горька. Мы готовы заслониться ужасом от страха и – виной исконной от мелочных жизненных вин. Символ могуч и глубок, его влечет к горнему, он преображает и мелкую грязцу жизни. А та прилегает к душе, оттискивается в ней с грозной силой. Может совсем не метафизичен мой побег, и вина моя плоская, а долг и вовсе материален. В конце концов это пошло – придавать мелкому слишком большую значительность, – сходно с истерией. Впрочем, простительно, когда годы сами по себе, как-то исподволь, стали склоняться к закату. Если все в жизни станет запинкой и труден каждый шаг, вот она – значительность каждой мелочи. А теперь я способен понять смыслы своей не дающейся сознанью жизни лишь в перекличке метонимий и метафор. По тому, сколь ближнее отдается в дальнем, по тому, сколь нижнее созвучно горнему. То есть вслушиваться в музыку своего потерявшего прежнюю определенность бытия. Сигаретная пачка выпала у меня из рук и ее чуть не унесло в поля, словно б вовсе лишая будущего, с которым я еще не готов расстаться. Я прихлопнул ее ногой, и вот она опять у меня в руках.
Из будки обходчика вышла баба в цветочном платке. Жасминовый куст мерцал в сумерках нераскрытой метафорой, и близь него мелькнул виденьем беловолосый мальчик, проплывший над полем, не касаясь трав. Мне вдруг стало паскудно на душе от нереальности мира, словно шуршащего бумагой, а не живыми травами. Я будто попал в западню, и телесным усилием захотелось распугать обставшие меня обобщения, как вывинчиваешься из опостылевшего сна. Наверно я все ж рожден писателем, поскольку готов существовать обок с собственной жизнью, – а иначе не умею. Где они, родные детали, утешающие мелочи? В мире шуршащем бумагой нет ужаса, но мало любви, – однако, возможно отчаянье.
Моя машина встала у переезда, как конь пред пропастью. Должно быть, опустел бак. Я один ли? Могу вообразить себя без усилья в одиночестве, если б не тонкий и сладковатый запах тления, если б не дыханье женственности, овевавшее все пространства, где б я ни находился. Будь я писателем, то навряд, изваял бы хоть один образ женщины, сколь ни было правдоподобный, а присутствием женщины трепетала бы каждая моя строка. Но, даже испытывая потребность писать лишь на сигаретных пачках, не могу не вымыслить спутницу своего побега. Вот она рядом, не живая и не мертвая, кукла – не кукла, столь деликатна, что даже дыханьем не являет себя. Может, и не метафора, – чуть замурзанная, – но и не человек во плоти, по крайней мере, не больше, чем я сам. Она покорна, готова вторить моим словам и мыслям. И все ж без нее не осмыслен пейзаж, и мой побег напрасен. Когда и где мы повстречались, в какой именно миг она прибилась к моей судьбе? Знал бы я в точности: может, вот-вот, может, давно, а может быть, мы не расставались вовсе. На ней, если и лежал блик моего прошлого, то лишь слегка различимый.
Тем временем, облачный мальчик все витал над полем, и я подумал, отчего б не он соглядатай. Отчего б соглядатай не женщина, отдающая запахом тления, сладким, как жасминный? – Не молчи, – просит она, и я, припоминая азбуку метафор, читаю ей повесть окрестного пейзажа. Мне не дается сюжет, а с какой простотой он доступен самому замухрыжистому леску, самому хилому полю, бывает даже и мусорной свалке. Она слушает молча. А слушает ли, не живая, не мертвая женщина? Затем напоминает: – Пора, ты в побеге.
Откуда узнала? Я скрывал от нее правду, готовый щедро поделиться истиной. Нет, подозрительно. Я заметил, что даже своим молчаньем женщина меня побуждала; или, лучше сказать, немного упорядочивала миги моей жизни, норовившие трепетать вразнобой, как мое начавшее стареть сердце. Пора бы и впрямь вперед, но мой побег, матафизичный донельзя, пресекла пахучая жидкость, запах которой я как раз любил с детства, в отличие от отдающего смертью жасмина. Верней, ее отсутствие, ибо опустел бак. Мне предстояло сделать шагов-то всего сотню, вон в ту сторону, до железнодорожной будки, но по опасному полю, где мальчик, правда, уже не реял, но соглядатай мог прятаться за любым кустом. Впрочем, оно выглядело уже неодушевленным, как муляж, опять-таки не живое – не мертвое. Шаги мне давались с трудом, поскольку я постоянно обременен мыслью. Иль просто начал пригнетать груз лет. Сперва я нашел ручеек, опасный для моего шелестевшего мира; омылся в нем сам, а воду в горсти принес женщине, – ополоснул ей лицо, впрочем, природно смуглое, – от копоти или грязи.
Затем постучал в сторожку. Баба открыла в прежнем платке, накинутом в нахмурку, и тетка стояла против света, так что лица не видать. А комнатка пахнула на меня душным уютом. Помню их, и не одну, – уютный маленький ад со скукой мраморных слоников и тяжелых перин. Ходики тикали бегающим кошачьим взглядом. Тетка сперва всполошилась, затем полезла в подпол, оставив меня под приглядом суетливых кошачьих глаз. Приятным для меня запахом детства тянуло со всех сторон, керосиновые лампы распускали черные локоны. Запах для меня всегда – тропа метафор, та самая связка, сопрягающая отдаленное. Да, пожалуй, была уже и не тропка, а вольный шлях, вдруг упершийся в скуластое бабье лицо. Было странно встретить знакомца среди случайного поля; было б глупо наткнуться на чужака в метафорическом побеге, когда весь путь пролегает через родное, – в том его и смысл. – Ты? – спросила тетка, узнав. Тогда и я узнал крещеную татарку. Вот ведь дурацкий образ, вынырнувший из позабытого. Что мне до нее? Но ей отчего-то до меня всегда было дело. Впрочем, она любопытна по натуре. У нее и прежде был дурной глаз, никому не суливший добра. Она в моем детстве была уже тетка, а, может, бабка. Теперь, вроде, чуть постарела, как, бывает, старятся на обочине памяти давно уж умершие люди.
Не видел я ее много лет. Если мерить действительным временем, это могла быть дочка крещеной татарки. Но дочери у нее, помниться, – даже наверняка скажу, – не было. Один придурковатый сын, мой ровесник, да никчемный муж, плотничавший по мелочи, впрочем, бессловесный и непьющий. А керосиновый запах, причем? Я родился в век керосинных ламп. Дачные поселки озарились электрическим светом, кажется, чуть позже. И вот вспоминаю лавочку с выстроенными в частокол лопатными черенками. Тут же – и бочонок маслянистой влаги. Торговала ль она керосином, крещеная татарка, или по любопытству и любви к сплетням постоянно толклась в очереди? Все ж некоторое время, видимо, торговала, – слишком уж пристал к ней керосиновый запах. То, что она вынырнула из моего беспамятства, вряд ли удивительно. Я всегда предпочитал бурлеск трагедии, – и не по умственной склонности, а словно, по душевной.
Крещеную татарку, если не боялись, то опасались. Она была злобной выдумщицей и клеветницей, – собирала чужие вины и грешки, а когда тех недоставало, придумывала невесть что с тупой убедительностью. Она не очерняла невинных, но подмаранных густо мазала дегтем. Почему она меня любила, теребила, ласкала, заглядывала в глаза? Однако, отчего притом моя несуеверная мама тайком сплевывала через левое плечо? Колдунья ворожила, и кто уж знает, какие имела на меня виды. – Чего ждете, в лес их тащите, – такой совет подавала татарка и моим подросшим друзьям. Они, это были девочки, чистейшие и нежные. Даже мои грезы о них были бесплотны, лишенные подростковой похотливости. Не терпелось колдунье их ославить. Но тут – мимо, свидания в ночном саду бывали невинны, и память о них сладка, только лишь черемуха саднит запахом ускользающей жизни.
Во многих местах я оставил клочки своей души, видать, по рассеянности – там и сям. В таких вот одичавших садиках, проросших бузиной и шиповником, оставил немного нежности. И случайно отыскав, бываю счастлив, хоть ненадолго. Колдунья гладила меня и хвалила, я, конечно, смущался, но верил. Какую злую, а может, упорную силу она в меня вдохнула, сколько принесла вреда и пользы? Нет, не странно, что я повстречал эту бойкую женщину на случайном полустанке. Выпрыгнула она из прошлого, как лягушка из могильной глины. Я ль пустился в побег, или все, кто сулил мне жизнь, меня избежали, по мелочи, по капельке унося прежде плотный вокруг меня уют? Они ведь унесли с собой и достоверную память о прошлом, оставив за моей спиной пустыню меж небом и землей, где рождается миф. Ангел и демон глядят мне вслед из дальних далей. Ежусь под их взглядом, и меня тянет сбежать. Или бегу я от по-другому опасных должников моей жизни? Выводя очередной вопросительный знак, я вновь сломал спичку, а новую не зажечь вблизи керосина. Тетка в погребе звенела посудой и булькала. Полуживая куколка крякнула в ночи клаксоном. А вокруг шелестел бумагой придуманный мною мир, дурной и картинный, не желавший наполняться жизнью. Уж как я его подчас ненавидел, – а иногда любил.
Еще воспоминанье о татарке, – наверно важней других: тетка меня отняла у пытавшихся украсть цыган. Возможно и зря, коль их жизнь – вечный побег. Но скорей всего, цыгане – ее выдумка, никто не мог подтвердить, а моя память по-младости слишком подавалась внушению. Блик памяти перемешан с другим: меня, заблудившегося в дачном перелеске, приласкали немые люди, не умевшие показать дорогу домой. Не исключу, что этих мирных людей теткино воображенье перепутало с кочевниками, – она боялась, что меня, прежде нее, похитят.
Колдунья отвлекла меня от вялого потока, – скорей ручейка, – чувств, явившись из погреба, – чуть не сказал: словно из могилы, – с керосиновой бутылью. А потом вдруг без повода заговорила бойко, прежней своей скороговоркой, чуть шепелявой. Загибая пальцы, она перечисляла персонажей моего детства, и я подивился, сколь многих позабыл. За годы старуха не сделалась добрее, – множила подробности давних сплетен. Должно быть, дачный поселок был жив и посейчас, – почему нет? Трудно поверить, что в нем так и стареют прежние люди, волнами повторяясь в поколениях. Мне лишь только в памяти кажется, что он теперь, если и существует, то всегда осенним. Наверняка, там, как бывало прежде, и лето цветет. А ведь я еще не успел его покинуть, как он стал увядать, подгнивать и портиться. В нем угнездилась тревога, – моя, должно быть, собственная отражалась от стен и деревьев. Притом, целиком, в прямом смысле осенним я никогда не видал это дачное место. Оно не предполагало осени. Опустевшие, потерявшие смысл емкости строений, садов и лужаек было ужасно даже помыслить, – одну из самых навязчивых для меня схем разора. – Помнишь этого, помнишь того? – навязчиво бормотала старуха, будто ворожила. А потом, как прежде, про меня: хорош, пригож, – все искусы сглаза. Я, хотя, как и мама, не суеверен, но тоже поплевал через плечо. И все-таки было приятно.
Я, надо признать, любопытен, – даже к судьбам случайных в моей жизни людей. Вот он зов погибшего во мне писателя. Поражаюсь способности других начинать отсчет своего существования со вчера. Однако, я тот писатель, кому не даются сюжеты. Вот крещеная татарка, она развитие сюжета или просто запинка? Я порасспросил бы тетку, но знал, что, болтливая, в сплетнях и себя не жалевшая, главное скрывала, – было, наверно, что, пестра была эпоха: от тирании до фашистских захватчиков. Сама тетка была, конечно не без грешка, – поговаривали о ней всякое. Даже, скрывая от нас, детей, шушукались о происхожденьи ее придурковатого сына, к которому, вроде бы муж-плотник непричастен. Это казалось правдой, – облик его свидетельствовал о непричастности к чему-либо. Добродушный, возможно, от безучастности, он бродил меж дач с ящиком плотницких приспособлений. Не знаю, кто прозвал его Крокодилом, тем более – за что. Ничего в нем не сквозило хищного и рептильного, наоборот – затравленность и, будто бы, пригнетенность виной. Вдобавок к общей незначительности, он был плохим плотником, применявшимся лишь для мелких поделок. Его узкое лицо состояло из двух склеенных профилей, и сын был на него похож, – должно быть, все-таки ошиблась людская молва. Впрочем, болезнь наделяет сходством. Если этот был незначителен, то сын и вовсе неприсутствующим, – его скрывали от людских глаз. Осталось тайной – и впрямь ли он был больным или просто странным, несчастным и глупым, в отца.
Болтливая тетка сама ни о чем меня не расспрашивала. Собирая сплетни, она больше доверяла своей фантазии, расцвечивавшими унылую реальность красками греха. Она была выдумщица и притом практична. Надо отдать справедливость, что людские грешки собирала не для шантажа, – вроде б не хранила, а тут же делилась с другими. Но все ж, напоминала ведьму, подбиравшую обстриженные ногти и волосы для своих колдовских нужд. Мне она подмигивала, подмаргивала, будто знала обо мне больше, чем я сам. Любопытно, что татарская колдунья за всю жизнь не приснилась мне ни разу. Сны ж мои провиденциальны, кажется устремлены к будущему, а не прошлому. Не один психоаналитик свернул голову, пытаясь отыскать там зерно детской сексуальности. А мое черное зернышко им найти не дано. Почему б в истоке не пребывать любви идеальной, а не похотливой?
Тетка бормотала и ворожила. Моя, прежде столь терпеливая подруга, теперь раскрякалась клаксоном во всю ночь, – звуком подобным сказочной птице. А может, то был сигнал опасности. Старуха не приглашала меня в пахучий уют своего домика, но и не отпускала, – словом, жестом, мимикой. Но отчего старуха? Годами – наверняка, хотя никто не знал ее годы. Но по виду она была свежа, по-прежнему без единой морщинки на щекастом лице. Меж ее не увядших и в старости грудей таился медный крестик, для моих детских лет – экзотика. – Знала, знала, что придешь, – уверяла татарка. «Ах, ах, пойди угадай, – так подумал я, – чьей судьбе мы причастны, чья нашей причастна, кто ворожит нам и путает наши пути. Чьи мы должники, кто наши судьи? Занавешены лица, и вся наша скудная действительность – только барашек на гребне».
Я только сейчас понял, что в ответ колдуньиному музыкальному рокоту, который странно напоминал вышивки на пяльцах, не произнес ни слова. Да я и вообще-то, стоит признать, частенько забывал произнести звуки речи, привык к молчаливому монологу. Случалось, даже пугался собственного голоса. Не скажу, что меня тянуло в пропахший клопами и прошлым уют, но ведь страшней довериться бесприютным полям, где веет тревогой. А женщина оказалась непроста, вдруг словом задела самое больное в моей памяти. Вот ведь, оказалось, к чему вела ее бескорыстная, словно музыка, вязь. То больное и нежное, возле которого вечно бдит враг. Там, где вина, долг и отрада. Смотрела на меня она по-прежнему, простодушно и с лаской. Два выстрела грянули в темноте. – Стреляют по ночам, – сообщила колдунья. – Ты не боишься? – Не боюсь.
И чего страшиться этому не желающему увядать цветку, корень которого глубоко в моем прошлом? А ее собственное – разбросано по углам, где фото вместо икон: теперь уж стерта разница в годах меж отцом и сыном, в своей придурковатой унылости они стали неразличимы. Я пригляделся, прислушался, принюхался: нет, ни следа, ни запаха от ее мужчин. Она стала одинока. Да и прежде, как казалось, в своей отрешенности они не задевают ее жизни. Тем не менее, служили причиной ее неприкаянности, ворожбы и злобных фантазий. Эта женщина знала беду. А отец с сыном, наверняка померли, – и прежде смотрелись, как не жильцы. «Пускай она призрак, – подумал я, – но и призраки томятся. Они не лишь для нас, а существуют в своей тоске. Может, потому и тщатся нас погубить, чтоб не оставить свидетелей собственной жизни. Тогда они развеются по ветру и пропадут без следа».
За окном словно б завязался ближний бой. Клаксон отвечал каждому выстрелу, как подстреленная утка. – Кабанов бьют, – пояснила старуха, кто бьет и почему, не уточнила. А я подумал, что и сам будто кабан в ночи. – Карты раскинула, сказали, что ты вернешься, – неожиданно произнесла татарка. Почему я должен к ней возвращаться? Не вечно ль обретаюсь в мороке чужих тайных чувств? А кого-то ведь и сам морочу. Понимая жизнь, как назидание, я не сомневался, что и встреча с крещеной татаркой неспроста. Дурно, однако, мы понимаем заветы бытия. А мне они и вовсе невнятны. Татарка преподнесла мне бутыль с вонючей влагой. Пришлось выбросить сигаретную пачку со спичкой вместе, а затем отступить от уютного порога. Ах, заворожила, заморочила меня татарка. Так он подумал, из высветленного ромба уходя в ночь. Старуха долго еще махала у темноту цветастым платком, а затем его кончиком утерла слезы. Она все ж надеялась, что он вернется.
То, что было потом
Дворик при сторожке был похож на ее прежний: столь же скучный и загаженный куриным пометом. Я распугал дремлющих кур, и петух коротко вскричал спросонья. Я подумал: причем тут дачная колдунья. Возможно, просто разминка памяти. По полю, которое, как ночник, освещал жасминный куст, будто и впрямь топотали звери. Выстрелы громыхали с тесовых вышек. Охота была в разгаре, но откровенная опасность ночи меня не пугала, больше я страшусь тайных угроз, знаю, что мой враг коварен и тих. Теперь я себя странно чувствовал свободным от соглядатаев, – те ведь не вечно бдят, и они подчас хотят покоя. Сейчас мне казалось, что они вдалеке – в ином времени и пространстве.
Сто шагов до заглохшей машины не оказались трудны. Ночь выедает пространство или, – сказать лучше, – лишает его разнообразия. Оно делается единым в своей тревоге и тайне. Женщина притаилась; ему даже показалось, что он везет мертвеца. Нет, женщина всего-то спала, бормоча чуть слышно и нежно. Два слова отозвались его мыслям и чувству: «страх» и «свобода». В кабине на миг разнесся запах керосиновой лавки, приправленный струганной древесиной и клопомором, но ветер полей вымел его вон. Машина тяжко перевалила через рельсы, где грозным гудом простерся страх железнодорожный. В женском бормотанье теперь отзывалась угроза. Страх выкурил меня, как лисицу, из почти уютной норы, и теперь я беззащитен и волен. Сладкий ужас пустых полей – хмель и солод моей свободы. Старый мотор хрюкал и взвизгивал, почти по-кабаньи. Выстрелы звучали все ближе и ближе, – видно мы оказались совсем рядом с охотой. Я выключил фары, чтоб не ввести в соблазн ночных охотников, ведь глупей всего погибнуть случайно: и так моя жизнь казалась вязью необязательного и ненамеренного, оттого я лелеял надежду завершить картину точным штрихом осмысленной гибели. Пусть глухой и тайной, без завета близким, – да и кто они? – но той, что вберет в себя все охвостья случайных путей, и вдруг одарит меня ненужным уж мне сюжетом. Жаль, жаль будет, если случайная пуля прервет тонкую игру преследования и ускользанья. Все ж, ночные поля веяли духом свободы и случая.