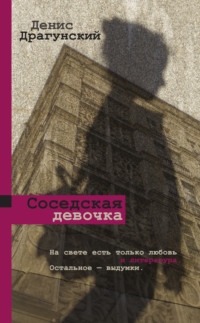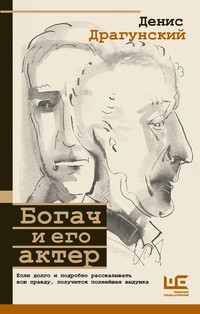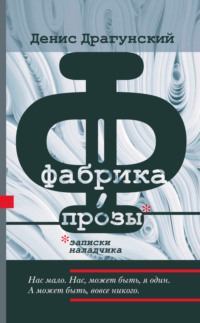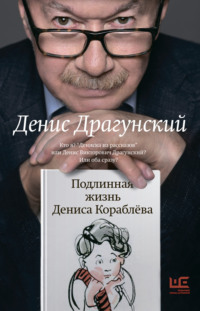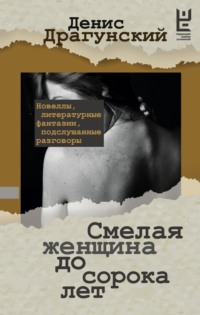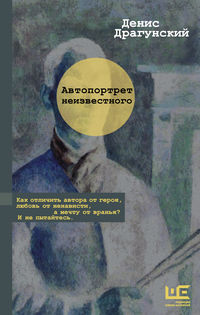Полная версия
Каменное сердце (сборник)
Конечно, никакого Парижа они так и не увидели – если о том Париже говорить, о котором мечталось. Никаких вечерних кафе, ночных прогулок, никакой, извините, любви в номере под крышей, где из узкого оконца виден кусочек узорчатой стены соседней церкви… Потому что на диване спит, вздыхая во сне, семилетний мальчик. Деньги были, и они попробовали его хоть на пару дней отселить в отдельный номер, соседний, через стенку, но он такой вой поднял – перед французами стыдно. И никакого промедления с завтраком! В отеле завтрак с семи до десяти, но Сережка просыпался в половине седьмого, чтобы первым ворваться в буфет. А на улице начиналось: «Пойдем туда!» – ладно, пойдем, пойдем. «Нет, вот туда!» – хорошо, давай вот туда. «Хочу пить, хочу конфету, булочку, игрушку, книжку, посидеть на лавочке, покататься на кораблике…» Хочу пить – по всем правилам: во время завтрака не уговоришь допить чашку чаю. Но только вышли из гостиницы, прошли сто метров – «Хочу пить!». И беги, папочка, в киоск, покупай бутылочку пепси за три евро. Насчет пописать – то же самое. В номере перед выходом: «Сыночка, пописай на дорожку, ты же с утра не писал» – «Не хочу!» – «Ну, попробуй» – «Не хочу-у-у!!!» – «Ведь захочешь на прогулке». – «Мамочка, я честное-честное-пречестное слово не захочу!» Ну и конечно, только сели в автобус – тут же драматическим шепотом: «Мамочка! Я очень хочу писать!» И беги, мамочка, ищи туалет или «Макдоналдс». Страшное дело. Но все равно приятно: сына в Париж свозили. Все-таки мальчишка увидел Эйфелеву башню, Триумфальную арку, и Нотр-Дам, и хрустальную пирамиду Лувра. Гордились.
Но дело не в том.
А в том дело, что Сережа сначала долго выбирал, на кого учиться. Выбрал мединститут. «Медицина – святое ремесло. Нет ничего выше, чем исцелять страждущих. Да и чисто практически, – пространно рассуждал Сережа, – врач никогда не пропадет. В любой кризис люди болеют и хотят вылечиться. В деревню сошлют – крестьяне будут доктору сало и хлеб носить.Даже на зоне доктор – в законе!» – повторял он эту странную поговорку. Хорошо. Согласились. Нанимали репетиторов, искали ходы-выходы.
Поступил. Учился вроде неплохо.
А с третьего курса вдруг решил уходить.
Куда, зачем, почему? А никуда и ни зачем. «Поездить по миру, постараться понять себя…» Тьфу! «Может быть, стану художником, может быть, бизнесменом. А может, буддийским монахом». Издеваешься? «Это моя жизнь, вы понимаете, моя собственная, и она у меня одна!» У нас она тоже одна, и мы ее всю без остатка на тебя положили! «Спасибо, конечно… но простите, я вас не просил ее на меня класть». А репетиторов в мединститут просил? «Каждый человек имеет право на ошибку!» Значит, высокое призвание врача, про которое ты нам, технарям, всю голову продолбил, – это была ошибка? Зачем ты два с половиной года зря мучился, сдавая пять сессий, уже пять сессий, дурак! Биохимию! Анатомию и что-то там еще! «Ну, почему же зря? Вдруг я в самом деле в старости стану буддийским монахом-врачевателем? Ничего на свете не делается зря…» Нет, он правда над нами издевается! Неблагодарный. Мы всё для него. С семи лет по заграницам катали.Всё лучшее – детям, хи-хи-с. А он даже не помнит.
– Помню! – вдруг сказал Сережа. – Париж помню. Жарко было. Вы меня всюду за собой таскали, а я ужасно уставал и пить хотел.
По морозу босиком
die TraumdeutungВот какая история случилась со мной довольно давно в городе Вашингтоне, округ Колумбия, в конце октября.
Золотая осень, еще тепло, хотя не жарко, но время от времени резко меняется ветер, облака закрывают солнце, и идет короткий дождь.
Большое здание недалеко отUnion Station.
Я пришел сниматься в какой-то телепередаче, в большой экспертной панели – нас рассадили за полукруглый стол, перед каждым – табличка с фамилией, бутылка минералки, стакан, блокнот, карандаш, микрофон с кнопкой.
Все, конечно, одеты по-вашингтонски формально – костюм, белая рубашка, галстук, наглаженные брюки, начищенные туфли.
Итак, садимся, стол спереди закрыт складчатой скатертью, и вдруг я вижу, что многие мои коллеги снимают туфли и ставят их рядышком. И сидят просто босиком. Я вижу, как старенький профессор нагибается, стаскивает носки и сует их в туфли, и сидит себе, растопырив свои шишковатые пальцы. А другие, вижу я, и вовсе были в туфлях на босу ногу.
Жарят лампы, съемка еще не началась, и я тоже, вместе со всеми, разуваюсь и снимаю носки под столом. О, этот страх «быть не как все», который у меня, по воспитанию – типичного советского человека, в Америке только усилился…
Запись передачи прошла быстро и складно, яркий свет погас, операторы и осветители засуетились, передвигая камеры и лампы – и вдруг мой сосед, старенький подагрический профессор, ткнул меня в бок и показал рукою, что меня зовут.
Я вижу, какая-то пара – молодой парень, высокий и курчавый, и женщина лет сорока, с короткими, слегка взлохмаченными волосами – машут мне и громко кричат «Mister Dragunsky! Mister Dragunsky!».
Я быстро иду к ним, забыв надеть туфли.
Иду по мягкому и приятному ковролину. Потом по паркету. Потом по теплому мраморному полу. Здороваемся, знакомимся. Женщина – сотрудницаBrookings Institution. Парень – из Washington Post. Меня приглашают на конференцию, которая будет через неделю, и будет широко освещаться, и я могу заранее написать свои тезисы, и что-то в этом роде, я уже, по прошествии лет, позабыл.
За разговором мы вышли из этого здания и оказались на тротуаре. И вдруг задул ветер и пошел крупный холодный дождь.
А я – босиком!
Я говорю им: «Минутку!» Поворачиваюсь, быстро возвращаюсь, пробегаю по холлу, вхожу в зал, где только что была съемка. А там уже другая съемка. Какие-то дети громко читают стихи, а мамы с папами хлопают в ладоши.
– Выйдите, вы мешаете! – тихо говорит мне администратор.
– Я тут забыл туфли! – шепчу я, показывая на свои босые ноги. – Туфли и носки!
– Вау! – шепчет он. – Ужас какой. Но всё уже унесли!
– Куда?
– Туда! – Он неопределенно показывает рукой в конец коридора.
Я бегу туда – там заперта дверь.
Что делать?!
Снова выхожу из здания – эти двое меня терпеливо ждут. Дождь меж тем идет все сильнее. Они стоят под зонтиками, дама в крепких осенних ботиночках, парень – в громадных кроссовках. Я им страшно завидую. Ноги начинают сильно мерзнуть.
– Глупая какая история, – говорю я. – Что делать, не знаю!
– У вас есть деньги? – спрашивает парень. – Я вас отвезу в магазин.
– Да, конечно! – говорю я. – Спасибо большое!
– Не надо в магазин, – говорит дама. – Мы доедем доOld Executive Building, это рядом с Белым Домом, вы знаете?
– Знаю, – говорю, – а зачем?
– Там есть склад старых вещей. Многие служащие держат на работе офисные туфли, галстуки и даже пиджаки. А когда увольняются – оставляют их. Брать с собой – плохая примета. Там куча всякого. Вы подберете себе отличные туфли. Нечего зря тратить деньги.
– Ну, нет! – говорит парень. – Надевать туфли того, кто уволен, вот где плохая примета! Станешь таким же лузером.
Они начинают спорить.
А дождь идет все сильнее, и ветер дует все злее.
Потому что ночью открылось окно, а я как раз высунул ноги из-под одеяла.
Но потом всё-таки встал, закрыл окно и снова заснул.
И поэтому дождь вдруг прекратился, ветер утих, снова стало солнечно и тепло, и асфальт прямо на глазах высох и согрелся.
Отступление и доказательство
душным питерским летомВ начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, одна пожилая дама, можно даже сказать – старушка, лет шестидесяти, с острыми глазками и маленьким острым носиком, с гладко приглаженными белобрысыми, мало поседевшими волосами, вышла из парадной дома на Средней Подьяческой, где она нанимала квартиру в четвертом этаже.
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы старушки.
Поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, пьяные молодые люди, что-то неразборчиво, но громко друг другу бубнящие, шагающие вразвалку, вприпрыжку или в обнимку с нарумяненными девками, пьющие пиво из горлышка, одетые в нарочитые лохмотья кричащих цветов, – довершили отвратительный и грустный колорит картины.
Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах старушки.
Пройдя несколько кварталов вдоль Екатерининского канала, но немного не дойдя до Гороховой, она остановилась у стены большого, недавно оштукатуренного дома. Подошла к парадной, осмотрелась, сделала несколько шагов в сторону, развязала свой потертый матерчатый ридикюль, достала пачку листков бумаги, вытащила один, затем достала скляночку с клеем, умакнула туда свой искривленный мизинец с коротким нечистым ногтем, но украшенный, однако же, дорогим и изящным брильянтовым перстнем, намазала клеем тыльную сторону бумажного листка и прилепила его к водосточной трубе.
Объявление, наклеенное ею, гласило:
«ДЕНЬГИ В КРЕДИТ ДЛЯ НЕИМУЩЕЙ МОЛОДЕЖИ,ОСОБЛИВО ЖЕ ДЛЯ ГОСПОД СТУДЕНТОВ.Быстро и под малый процент!
С залогом и без оного, зависимо от доверия!
Адрес: Средняя Подьяческая улица, 15. 1-я парадная направо, 4-й этаж. Первая дверь направо. Спросить Алену Ивановну».
Через три часа, вернувшись в свою квартиру, она была встречена своей сестрою, моложе ее лет на двадцать или двадцать пять, и на безмолвный вопрос ее ответила:
– Довольно отступать! Я им докажу!
Сказавши это, она встала на колени перед кроватью, вытащила укладку и почти в самом низу ее, под сложенными фуфайками, истлевшими мерлушками и пустыми рамочками от выброшенных портретов, нашла то, что искала – маленький, на темной деревянной ручке, столярный топорик.
Спрятала его под подушкой, села в кресла у окна и принялась ждать.
Из набросков к роману «Сестры Безобразовы»
черновик эпизодаТрифиллов обиделся на художника Всемогуцкого – тот изобразил Магдалину в виде их общей знакомой Марфиньки Безобразовой, да еще с голой грудью с синяком от его, Трифиллова, поцелуя. Слева снаружи, ближе к подмышке; и выставил в Академии Художеств, а князь Вотраминов приобрел за тысячу рублей и повесил в своей бильярдной, как сказывал его дворецкий, с которым Трифиллов был в свойстве через Татьяну Карловну Демпель.
Трифиллов пошел на аукцион и не очень задорого купил этюд Всемогуцкого «Пионы на могиле Пушкина в день его рождения». Принес домой. Заказал раму. Потом вставил в раму и повесил на стену. Посмотрел, зарычал, сорвал со стены и долго топтал, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!» – сладостно сознавая, что это есть кощунство в отношении Пушкина, который тут вовсе ни при чем.
Истоптал, вырвал холст и бросил в голландскую печь.
Снизу пришел жилец Марфущенко и спросил, что за гром, от люстры стекляшка оторвалась. Трифиллов долго извинялся и подарил ему поломанную раму. «Ну, разве на растопку», – сказал Марфущенко и ушел.
А Трифиллов стал пальцем затирать дырку от гвоздя в стене и думать, что Всемогуцкий – даровитый артист, но подлец.
Конфеты Достоевского
Сбились мы. Что делать нам!Вот конфеты, которые моей прабабушке, гимназистке, подарил Достоевский.
Конфеты, конечно, съели.
Но вот красивая жестяная коробочка, в которой лежали конфеты.
Коробочки больше нет. Прабабушкин сын взял эту коробочку, чтобы держать в ней табак, когда ушел на войну. На войне его убили и закопали вместе со всеми. Может, вместе с этой коробочкой тоже.
А вот буфет, в нем на полке когда-то стояла красивая жестяная коробочка из-под конфет, которые моей прабабушке подарил Достоевский.
Буфета больше нет, его сожгли в печке зимой, в войну. Но, кажется, не в ту, когда убили прабабушкиного сына, то есть моего дедушку. Кажется, это была другая война.
Но вот комната, где стоял буфет, на полке которого стояла коробочка из-под конфет.
Комнаты тоже нет, ее разгородили на три – на вроде бы гостиную, якобы спальню и маленький закуток, как бы прихожую. Потому что в коридоре держать пальто было опасно: украдут.
Зато осталась квартира, где была комната, в которой стоял буфет, а на полке была красивая жестяная коробочка из-под конфет, которые моей прабабушке подарил Достоевский, когда она была гимназисткой. Ей было двенадцать лет, кажется. Это было в восьмидесятом, вроде бы.
Потом эту квартиру забрали под какую-то контору. «Центр-Снаб-Сбыт-Торг», ах, разве запомнишь!
Но вот дом, в котором во втором этаже была эта квартира. В которой была большая комната, в два окна, с круглым столом, шесть стульев, диван и люстра с шарами, а между окнами стоял буфет, где на полке была коробочка из-под конфет, подаренных Достоевским. Кажется, в ней тоже держали конфеты.
Дом сгорел. На его месте построили летний кинотеатр.
Потом в него попала бомба. Несчастливое место!
Осталась улица, на которой стоял кинотеатр на месте дома, в котором была квартира, где была комната, где стоял буфет, в котором на полке, между фарфоровой сахарницей и серебряным молочником, стояла жестянка из-под конфет. Семейная реликвия. Достоевский подарил прабабушке-гимназистке. Прабабушкина мама почему-то не любила эту историю. Но прабабушкин папа велел, чтоб коробочку сохранили: все-таки Достоевский.
Бомбежки, однако, продолжались. Выбомбили почти полгорода. Поэтому после войны всё перепланировали. Город стал совершенно не похож на то, что было раньше.
Так что остался город, в котором когда-то была улица, на которой стоял летний кинотеатр на месте дома, в котором была квартира, ну и так далее.
Я устала повторять. Хотя если вспомнить, что по этому городу когда-то ходили гимназистки, и сам Достоевский заезжал сюда в гости к своему дальнему родственнику, и был литературный вечер, и моя прабабушка прочитала наизусть последнее письмо Вареньки Добросклоновой к Макару Девушкину… Если это вспомнить, становится немного легче.
Потом в городе закрыли трикотажную фабрику и завод «Электроагрегат», в их корпусах устроили торгово-развлекательные центры. Но просчитались, наверное – нечем торговать и некого развлекать.
Люди разъехались. В дома перестали подавать тепло и воду. Две зимы – и города больше нет: дома развалились, стоят, поблескивая битыми стеклами окон. Между ними растут лиловые свечи иван-чая.
Это очень красиво – луговое и травяное, совсем лиловое место, где был город, в котором была улица Кирова, на которой стояла летняя киношка «Авангард», на месте которой стоял дом – улица тогда была не Кирова, а Николаевская – или Павловская? – господи, да какая разница! – дом, в котором во втором этаже – поднявшись по лестнице, налево – была квартира, в которой была большая-пребольшая столовая, в которой стоял буфет с витыми колоннами и мраморной доской, и на полке, за застеклённой дверцей, стояла жестяная коробочка из-под конфет Достоевского.
А это я. Мне уже восемьдесят два.
То есть это, конечно, не я.
Это мое мертвое тело, его везут на каталке по длинному больничному коридору, он застелен линолеумом, стыки закрыты плоскими рейками, каталка чуть подскакивает, и болтается моя голова, которая еще сегодня утром помнила лиловые заросли иван-чая на месте города, где когда-то была улица, на которой стоял дом – дом, кстати, был трехэтажный, с одной парадной, на шесть квартир, прабабушкина была во втором этаже, левая, то есть номер три, но уже хватит, вот меня привезли, а вечером будут резать. Потрошить живот и пилить череп. Неужели они хотят там найти красивую жестяную коробочку из-под конфет, которую моей прабабушке Аглае Тимофеевне подарил Достоевский? Или не будут? Зачем нужно вскрывать старуху, которая умерла на восемьдесят третьем году жизни? Нет, и не надо, так даже лучше.
Жаль, что я не попробовала тех конфет.
Дорогой писатель Достоевский! Где моя конфета? Круглая, шоколадная, с марципановой начинкой, обсыпанная вафельной крошкой…
Спасибо. Боже, как вкусно. Простите, но я так и не дочитала ваш роман «Бесы».
О наших и ваших слезинках
Достоевский в подробностяхОпять стали повторять: ни одна идея не стоит человеческой жизни.
Вроде бы всё верно. Но мне в этих гуманных и благородных словах слышится подловатая недоговоренность.
Почему подловатая?
Потому что произносящий эту фразу молча подразумевает: «Ни одна ВАША идея не стоит человеческой жизни, ничьей – ни вашей, ни тем более нашей. А вот если речь идет о НАШЕЙ идее, то мы за нее положим сколько хочешь наших жизней, а о ваших жизнях и говорить нечего – в пыль сотрем и сверху наплюем».
То есть ваша независимость, устройство вашей жизни по вашим меркам – это чушь, которая никак не стоит пролития ничьей крови. А если вы ее проливаете за это – вы гнусные садисты и маньяки.
Но наша независимость, устройство нашей жизни по нашим меркам – это высшая ценность, за которую не жалко уничтожить массу людей. И если мы за это проливаем кровь, свою и чужую, то мы – борцы за правое дело.
Почему я уверен в таком молчаливом предположении?
Потому что, если бы говорящий «ни одна идея не стоит человеческой жизни» на самом деле бы так считал и не делил бы идеи и жизни на «наши» и «не наши» – он бы не искал негодяев за порогом своего дома, а первым делом проклял бы убийц 1918–1938 годов, для начала. Вот уж, когда сотнями тысяч убивали людей не на войне, а за чистую идею: за крестьянскую коммунию, за чистоту марксизма-ленинизма от троцкистов и бухаринцев. Но гуманисты, озаботившиеся капелькой крови и особенно слезинкой ребенка, говорят: «Ну, это время такое было, и вообще не нам их судить».
То есть наших судить некому, да и нельзя.
А ваших – нам судить, нам!
Что касается «слезинки ребенка» – о ней говорил Иван Карамазов (часть вторая, книга пятая, глава IV, «Бунт»). О том, что мировая гармония не может стоять на слезинке замученного (в книге – посаженного в темный карцер) ребенка. И поэтому Иван далее «возвращает билет», то есть объявляет о своем неверии в Бога.
То есть пункт номер один: тезис о слезинке ребенка вызывает отрицание Бога (так как Бог таких слезинок допускает просто океаны).
Пункт номер два. Святой Алеша Карамазов после рассказа о помещике, который затравил крестьянского мальчика собаками, восклицает «Расстрелять!» (негодяя-помещика), что вызывает восторг у Ивана. Но не надо быть крупным диалектиком, чтобы понять – расстрел помещика до слез огорчит его деточек. То есть мировая гармония (убить изверга) будет опять стоять на «слезинке ребенка».
И наконец. Это всё герои Достоевского говорят, а Достоевский, как учил Бахтин, «полифоничен», то есть герои сами за себя высказываются, а не от имени автора. Хорошо! Но что же сам автор?
А вот сам автор не раз высказывался за войну – и в Туркестане, и особенно чтоб воздвигнуть крест над Святой Софией и заодно захватить проливы. Царю писал об этом! Ну, не мог же он не понимать, что детские слезинки в Стамбуле просто из берегов выйдут!
Но это, очевидно, их слезинки. Басурманские.
Так что, дорогие мои друзья, я бы вам не советовал без толка и разбора использовать цитату про «слезинку ребенка», по своей бессмысленной пошлости сравнимую разве что с «мы в ответе за тех, кого приручили».
Вся правда о войне и мире
на земле весь род людскойОдин человек рассказывает в своих воспоминанияx, как во время войны в полевых госпиталях бойцы насиловали санитарок, молоденьких безответных девчонок.
Другой пишет про то, как командир возил с собой фортепьяно и корову для своей походно-полковой жены, и красноармейцы доили корову, и посмей кто спереть хоть стаканчик молока.
Третий – про воровство, бестолковость, жадность, ложь. И так далее.
«Вот, – говорят эти люди. – Вот вам вся правда о войне!»
Нет, конечно, это не так.
Но не в том смысле, что это выдумки. Наверное, всё это было. Может, было что-то и похуже.
Но это правда не о войне. Правда о войне – это о войсковых операциях и обо всем, что с этим прямо или косвенно связано.
А это – правда о жизни.
В жизни много насилия, жестокой похоти, бесстыдства, алчности. Но кто сказал, что в роковую годину войны все эти человеческие свойства должны отвалиться, как короста? Кто сказал, что грубые, злые, вороватые, туповатые и похотливые люди в один миг превратятся в чистых, благородных и бескорыстных рыцарей?
Да нет, конечно.
Наверное, в бараках и палаточных городках великих строек социализма тоже насиловали девчонок, начальство наглело, а мелкота воровала.
И безо всякого социализма, в фабричных слободках, делалось то же самое.
И не только в России, разумеется. Везде так бывало.
Война тут ни при чем. Другое дело, что на фоне войны всё это смотрится еще гаже, чем в декорациях мирного времени.
Но тут уж ничего не поделаешь.
Мыслепреступление
клиника осажденной крепостиИзвестную переводчицу Татьяну Гнедич арестовали в начале 1945 года. Она сама на себя донесла. В чем же она созналась? Оказывается, по просьбе британского дипломата она перевела поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан» на английский, причем стихами, для публикации в Лондоне. Дипломат сказал: «Вот бы вам поработать у нас, как много вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!»
Напомню, что СССР и Великобритания были союзниками.
Идея поездки в Англию застряла у Татьяны Гнедич в голове – и она сочла эту мысль предательской. И заявила сама на себя.
То естьсозналась в мыслепреступлении.
Ее осудили на 10 лет ИТЛ (измена родине, неосуществленное намерение)[1].
Однако гримасы жизни не кончаются с отменой выездных виз.
Вот какая-то петербурженка написала в gazeta.ru про «девять причин, по которым она уезжает из России».
И народ активно обсуждает. Почти две тысячи комментариев. Всплывает темапредательства и измены.
Побойтесь Бога, друзья. Предательство (измена родине) – это переход на сторону врага во время войны или шпионаж в пользу иностранного государства. И всё.
Переезд в другую страну ничего общего с предательством не имеет.
Это как надо было изнасиловать людям мозги идеей «осажденной крепости», что даже современная молодая женщина считает свой отъезд за границу на ПМЖ чем-то нехорошим, непорядочным. Поступком, который нуждается в объяснениях и оправданиях.
Какой-то наследственный бред.
Так и вижу женщину, вбегающую в кабинет особиста:
– Арестуйте меня, я захотела съездить в Англию…
Грустные мысли грустного человека
«cost/effectНу вот, – думает некий молодой образованный литератор, – вот я гляжу и вижу: что там, что здесь – одно и то же. И справа, и слева, и среди либералов-прогрессистов, и среди охранителей-реакционеров, и в проправительственном лагере, и в оппозиционном – всё одинаково».
Все, ну почти все, на 99 % – самоуверенные недоучки, все – надутые самовлюбленные нарциссы, все – руками и ногами держатся за теплое местечко… Все – интриганы и кумовья, все – больше всего на свете обожают деньги и стремятся побольше заработать, а если неопасно, то и украсть, распилить, получить откат, учредить дочернее предприятие и качать через него деньгу. И при этом сколько амбиций, сколько восторгов по поводу себя и сколько деятельной ненависти к врагу, которым чаще всего оказывается не человек из противоположного лагеря, а соратник, вдруг ставший конкурентом…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Источник: «Новая Газета», 24.08.2011. Е. Эткинд, «Добровольный крест», мемуарная записка 1955 года