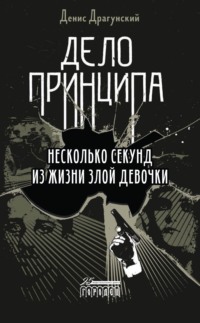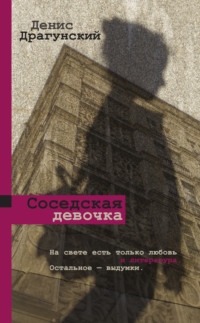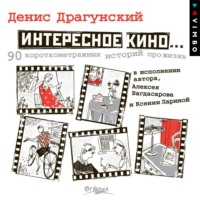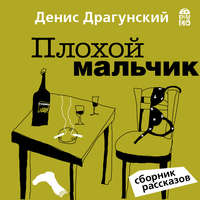Полная версия
Каменное сердце (сборник)
Учительница Лидия Сергеевна велела мне остаться после уроков.
– Что ты понаписал? – тихо, но возмущенно сказала она.
– А что, Лидь Сергевн? – удивился я. – Хорошая книга!
– Она не могла тебе понравиться! Не могла!
– Но понравилась ведь, – сказал я. – Честно.
– Нет! – сказала она. – Такие книги в таком возрасте не могут нравиться советскому школьнику.
Я почувствовал какую-то опасность и сказал:
– Это советская книга. Советского писателя Беляева.
– Я сказала «в таком возрасте», – уточнила Лидия Сергеевна. – Ты в ней ничего не понял.
– Я всё понял! – уперся я. – Это книга про науку на службе капиталистов. Что это нехорошо, от этого люди в конце концов погибают.
– В восьмом классе будешь об этом рассуждать! – засмеялась Лидия Сергеевна. – Садись. Вот листок. Пиши про книгу «Тимур и его команда».
– Я ее не читал, – сказал я.
– Ничего, – сказала Лидия Сергеевна и села на мою парту, сверху, прямо рядом с выемкой для ручки. Она нависла надо мной. У нее были стройные сухие ноги. Сквозь юбку были выпукло видны подвязки для чулок. От нее сильно пахло духами. – Ничего-ничего, – повторила она. – Я тебе продиктую. Пиши: «Этим летом я прочитал много хороших книг. Но больше всех мне понравилась одна. Автор – Аркадий Гайдар. Название – «Тимур и его команда».
– Это обязательно? – Я еще надеялся улизнуть.
Лидия Сергеевна погладила меня по голове и негромко сказала:
– Ты же умный парень… У нас у всех, понимаешь, у! нас! у! всех! будут неприятности из-за твоего, ах, профессора Доуэля. Давай, не задерживай, мама ждет к обеду. Пиши: «список героев: Тимур, Женя, Квакин…»
Ну, я и написал.
Но так и не понял, что это было.
Литература и жизнь
проблема типическогоУ писательницы Валерии Перуанской была повесть «Кикимора» (1976; фильм Лапшина «Продлись, продлись, очарованье», 1984).
Там была главная героиня 55 лет (только что ушла на пенсию, причем точь-в-точь; следовательно, судя по дате написания повести, 1920 г. рождения).
У нее за всю ее жизнь был один (в скобках цифрами: 1) сексуальный опыт. Подчеркиваю – не один мужчина у нее был, а именно один раз.
При этом она образованна и более или менее социализована: оканчивает институт, работает в издательстве. Почему только «более или менее»? Потому что, имея высшее образование, всю жизнь проработала корректором; близких друзей у нее нет.
Вот что нужно отметить: до пятидесяти лет она живет вместе с родителями, в одной комнате, в коммунальной квартире, причем мама ее всячески избавляет от домашних обязанностей вроде стирки-готовки-уборки.
И второй важный момент: этот единственный сексуальный опыт был для нее весьма травматичным. Дело было во время войны. То есть ей было немного за двадцать. Она оказалась наедине с молоденьким офицером; он стал к ней приставать, она отказала. Тогда он грустно вздохнул: «А я завтра уезжаю на фронт…» Ей жалко его стало, она почувствовала к нему какую-то особую нежность – вот, мол, убьют паренька, так и не испытавшего женской ласки. Отдалась ему, а он потом холодно и равнодушно стал одеваться, и был недоволен: зачем она не предупредила, что девушка?
Потом она сделала аборт («перед мамой и папой было стыдно») – и еще вдобавок подруга рассказала, что этот парень ни на какой фронт не собирался, так как был тыловым работником.
В итоге героиня повести осталась без вот этой довольно важной стороны нашего, так сказать, человеческого бытия.
Бывает?
Наверное, бывает. Все бывает.
Но у меня, как у старомодного литературоведа, возникает старомодный вопрос: насколько это жизненно?
В смысле – типично и характерно для той (советской) жизни?
Вот я вроде бы советский человек, а не знаю.
Но это крайне нетипично и нехарактерно для советской литературы послевоенной эпохи (не говоря уж о довоенной). В произведениях писателей того времени – Юрия Трифонова, Юрия Казакова, Юрия Нагибина, а также Шукшина, Аксенова и так далее, включая официальных столпов соцреализма – люди активно женятся, заводят романы, влюбляются, разлюбляют, переживают разрывы, ищут и находят новую любовь. И даже изменяют женам/мужьям: даже самые положительные герои, члены партии и ответственные работники, порой имеют связи на стороне.
Так что в СССР секс был, успокойтесь!
Или секс в советской литературе – это «лакировка действительности»? Трудно в это поверить.
И еще:
Бывает, повторяю, всё на свете. В качестве казуса. Девушка, вышедшая замуж за отца или даже деда своего бойфренда, или молодой человек, женившийся на матери своей девушки – такое бывает? Бывает! Я сам знаю два или три таких случая. Но они, при всей их бесспорной фактичности, всё же не являются характерными.
А вот женщина, имевшая один (пусть отрицательный, как теперь говорят, «травматичный») сексуальный опыт в молодости и так прожившая остаток лет, – насколько это характерно для советской жизни? Или это все-таки казус? Ничего не понятно.
И самое главное.
Мне странно читать: «она ждала настоящей любви, а любовь не пришла». Звучит примерно так же, как «он, сидя на дачной террасе, ждал грибов, а грибы не пришли, оттого и корзинка пуста». Любовь, как и грибы в лесу, нужно искать!
Перспектива
по вечерам над ресторанами– Во-первых, я замужем, – строго сказала она в ответ на предложение пойти поужинать в модный ресторан «Герасим и барыня».
– А-а-а… – сказал он.
– Но, во-вторых, – беззаботно засмеялась она, – мой муж уехал в деловую поездку.
– О! – сказал он.
– Но, в-третьих, – вздохнула она, – он должен вернуться на днях. Может быть, даже сегодня. Может быть, он уже дома!
– Эх, – сказал он.
– Но это неважно! Мы могли бы поужинать, а потом… Можно придумать, куда потом этак завалиться, а?
– Ура! – сказал он.
– Но потом он бы все равно нас разыскал! – Она подняла палец.
– Ну и пускай! – расхрабрился он.
– Скажите, пожалуйста! – Она пожала плечами. – Вы что, готовы на мне жениться, если муж меня бросит за измену?
– Готов, – честно сказал он.
– Жениться на избалованной женщине без высшего образования, но зато с двумя детьми?
– Да! – сказал он и взял ее за руку.
– А на какие такие дивиденды вы будете содержать меня и моих детей?
– Проживем! – сказал он и обнял ее.
– Не уверена, – сказала она и вырвалась из его объятий.
– Жаль, – сухо сказал он и отошел от нее на полшага.
– Мне тоже, – сказала она и заплакала.
– Пустое, пустое, – сочувственно прошептал он, подавая ей чистейший носовой платок. – Все равно пойдемте поужинаем. Просто так, по-дружески, безо всяких перспектив и обязательств. А?
– Какой вы скучный. – Она вытерла слезы. – Ладно. Но только один раз.
Снимается кино
сон на 4 апреля 2015 годаПриснилось мне, что я оказался в большой толпе, которая медленно движется под мостом, перекинутым через железнодорожные пути и другое шоссе. Там есть широкий проход для пешеходов, с металлической оградой и с небольшими выступами-карманами, где можно постоять, глядя вниз, как едут машины, разворачиваясь под этим мостом, – съезжают с моста, ныряют под мост в короткий туннель и потом выныривают с другой стороны и снова въезжают на мост, чтобы ехать в обратную сторону.
Рядом со мной какой-то незнакомый человек.
Мимо нас идут странно одетые люди. Вроде бы нормальные мужчины и женщины, в пиджаках и платьях – лето на дворе, – но платья ситцевые, заношенные и линялые, пиджаки засаленные и как будто великоватые, с набитыми ватой плечами и широкими лацканами. Косынки и кепки. Сапоги. У женщин – босоножки на запыленных ногах с черными пятками. Но всё очень яркое. Бежевые пиджаки, белые кепки, синие цветочки на косынках, значки на лацканах. Голубые глаза и алые губы.
– Это кино снимают, – говорит стоящий рядом со мной человек, как будто отвечая на мой вопрос. – Это массовка.
Тем временем я вижу, что полицейский внизу перегораживает дорогу, по которой под мостом ехали машины. Дорога очищается, полицейский машет жезлом, и я слышу голос из мегафона: «Пооо-шли!» – и вся толпа медленно спускается вниз, под мост, заполняет собой пространство дороги, втекает в туннель.
Тут я вижу, что сверху, на мосту, стоит кинокамера, рядом два человека – оператор и режиссер, наверное. Они снимают этот поток людей.
– Что за фильм? – спрашиваю.
– «Мастер и Маргарита», – отвечает мой собеседник.
– Точно? Не может быть! – говорю я.
– Точно, точно, – говорит он. – Я художник-постановщик. Это я их так одел, ничего, неплохо, а? – Он с гордостью указывает на толпу. – Думаете, это на них всякая рвань? Хо-хо! Мы каждый сарафанчик отдельно шили, потом вымачивали, растрепывали… А пиджаки! Знаете, как трудно затеребить как следует пиджак? То-то же.
Он протягивает мне визитку, мелькает как будто знакомая фамилия, то ли я где-то слышал, то ли читал.
– Я потому засомневался, – говорю я, – что в книге нет массовых сцен в Москве. Ну, разве что в театре «Варьете». Но тут ведь не театр! И вообще в «Мастере», если я правильно помню, всего одна большая массовая сцена – где Пилат объявляет о казни и о помиловании Вараввы.
– Именно! – говорит художник. – В сценарии всё поменяли. Новая трактовка. Основное действие происходит в Иерусалиме во времена Пилата. То есть в тридцатые годы первого века нашей эры. Там появляется Воланд и рассказывает героям – это разные местные писатели, философы, богачи, – что будет происходить в Москве через тысячу девятьсот лет. «Московские Процессы», толпа кричит «расстрелять, как бешеных собак» и всё такое. Вот эта самая толпа, – он показывает вниз.
– А Сталин будет? – спрашиваю я.
– Да, обязательно. Сталин, Ягода, Ежов, Вышинский, Ульрих…
– А Иешуа Га-Ноцри? В смысле Иисус Христос?
– Нет. В сюжет не вписывается. В смысле, в новую трактовку. Сами глядите, кто в Москве в тридцатые годы может быть в роли Христа? Безупречный моральный диссидент, которого распяли? Кто это? Ну, кто? Так что лучше без него…
Вдруг с моста из мегафона раздается: «Наааа-зад!»
Толпа качается и движется назад. Потом вперед. Потом опять назад и еще раз вперед. Голова кружится на них смотреть.
– Бедные, – говорю. – А сколько им платят?
– Вы что? – удивляется художник-постановщик. – Ничего им не платят. Это же такая честь и удача! Сняться в таком кино, хотя бы в массовке! Потом будут себя ловить на экране, если попадут в кадр. Хоть секундочку, а в бессмертии! – смеется он.
– Жалко, – говорю я. – А кто-то и не попадет. Зря промучается целый день.
– И мне жалко, – говорит он. – Но ничего не поделаешь. Наш народ не накопил опыта переживания страданий. Поэтому все повторяется. Поэтому люди охотно соглашаются работать на жаре и бесплатно, целый день. За одну только маленькую надежду попасть в кадр. То есть в бессмертие.
– Позвольте! – Я возмущен. – Как это «не накопил опыт переживания»? Да наш народ столько пережил, на пять других народов хватит!
– Возможно, я неточно выразился, – говорит он. – Хотя нет! Я совершенно точно выразился! Наш народ страшно страдал. Опыт страданий есть. Но опыта переживания страданий – нет. Переживание – это осознание, осмысление, стремление понять, почему и зачем всё было. Пережить – значит, заново через свою душу пропустить и понять свои страдания. Вот этого нет. Совсем нет. Вместо этого говорят: «Не будем ворошить прошлое!» И снова идут, куда позвали. Неизвестно зачем. Режиссер получит славу. Сценариста отругают. Меня похлопают по плечу. Актерам хорошо заплатят. А про них никто не вспомнит. Разве что снова похвалят режиссера, что хорошо подобрал типажи…
Я гляжу на сосредоточенно-веселые, красиво загримированные лица людей в массовке, я вижу тщательно затрепанные пиджаки и платья, и мне так тоскливо становится от этих вопросов – накопил опыт переживания? не накопил? – что я просыпаюсь.
Южный поток
узнаю клинок разящийЗа соседним столиком начался небольшой скандал. Негромкая, но злая перепалка. Вся компания – дорого и модно одетые мужчины и женщины – пыталась что-то внушить молодой, очень красивой и, по всему видно, своенравной девушке. Она резко пожала плечами и опрокинула свой бокал. Вино полилось на скатерть. Сидевший рядом мужчина вскочил из-за стола, чтоб не закапаться, махнул рукой официанту. Тот прибежал с полотенцем, а мужчина, что-то сказав девушке, покровительственно засмеялся.
Она встала, взяла свою тарелку и пересела за другой столик.
Вся компания сделала вид, что не обращает на нее внимания.
Петров наблюдал за этой сценой из угла. Он сидел и ужинал в одиночестве. Потому что сегодня он крепко поссорился с женой, с дочерью и с мужем дочери. А также с братом и его женой, потому что они позвонили и стали его поучать – сначала брат, а потом невестка, то есть жена брата. Петров сказал им что-то резкое, нажал отбой, еще раз накричал на жену и дочь, обозвал зятя «не мужиком» и вышел, хлопнув дверью.
Никого из приятелей не было дома. А кто был – был занят. Петров проехал по городу из конца в конец, а потом решил – да пошли они все к черту! – посидеть в хорошем ресторане.
И вот, значит, он увидел, как красивая девушка, явно поссорившись со своими друзьями, отсела за соседний столик. Она была совсем молодая, но Петров подумал, что ничего, всё нормально. Она сидела и ковыряла вилкой в тарелке, но не ела. И ничего не пила, потому что было нечего. Свой-то бокал она бросила на стол! А встать и взять с общего стола другой бокал ей, наверное, гордость не позволяла.
Петров позвал официанта и попросил карту вин.
Сначала он хотел заказать для нее бокал вина. Чтоб вино подороже, получше. Даже посоветовался с официантом. Потом решил – шампанского. Даже не бокал, а бутылку. И не какой-нибудь сладенькой слабоалкогольной водички с пузырьками, а настоящего брюта, итальянского, а лучше французского. А вот так! А вот я такой!
Заглянул в бумажник. Но уже перед самим собой было стыдно отступать.
Официант поставил на её столик ведерко со льдом, из которого торчало серебристое горлышко бутылки. Склонился над девушкой, прошептал что-то. Аккуратно открыл, ловко налил.
Она подняла узкий высокий бокал и улыбнулась Петрову.
Он кивнул ей. Заметил, что вся компания замолчала и с некоторым даже почтительным удивлением на него смотрит. Бить не будут, он понял сразу. Интеллигенты. Да и за что тут бить? За бутылку шампанского в подарок?
Ему тоже захотелось ощутить сухой, холодный, чуть хмельной вкус хорошего брюта – как перед поцелуем. Но это желание вдруг отрезвило его. Ну, вот тебе поцелуй, а дальше что? Допустим, она на всё согласна. Но куда ее везти? Денег оставалось вплотную, чтоб рассчитаться, ни о какой гостинице речи нет. Даже если она его к себе позовет, у него нет ни на такси, ни на еще одну бутылку и конфет коробку.
Да и вообще. Одно дело – поссорившись, уйти из дома на полдня, и совсем другое – с ночевкой… А вдруг – новая жизнь? Эх. Дураки вы, больше никто! «И я дурак, – подумал он. – Кому и что я доказал? Зачем выкинул столько денег? Пощекотал свои фантазии, вот и всё! Она меня забудет через полчаса! А ее дружки – посмеются!»
Петров встал, еще раз кивнул девушке, прошел к стойке, расплатился и вышел из ресторана.
Постоял у окна и увидел, как девушка берет подаренную бутылку, идет к своим приятелям, как они снова вместе пьют и веселятся.
Ну и ладно. Ну и черт с ней! А все-таки лихо, а? Этак шампанского незнакомой девушке, просто так, а? Французского, дорогого, а? Знай наших!
«Это и в большой политике бывает, – думал Петров. – Вот мы, Россия то есть, неизвестно с какого перепугу решили дать Греции пять ярдов евро. Зачем? А чтоб все кругом – у! Ой-ой-ой! Вот это да! Хотя, конечно, Греция нас кинет. Схомячит наши бабки и ручкой сделает. Еще и поржет. Ну и что? А мы такие! Нам не жалко!»
Эти мысли успокоили Петрова, и он поехал мириться с женой.
Садовая, бублики и брынза
вид с одиннадцатого этажаИногда, чтобы вспомнить, нужна всего одна фраза.
Например, «на Садовой большое движение». Так называется рассказ Виктора Драгунского, моего отца. О том, как Дениску и Ваньку обманул взрослый парень. Попросил у них велосипед, слетать в аптеку за лекарством для бабушки. И не вернулся, конечно же.
Но я не про рассказ, а про эту фразу.
Большое движение на Садовой я впервые увидел в 1960 году.
Мы переехали на новую квартиру. Это было поздней осенью. Я тогда был в третьем классе. Первую четверть я еще ходил в старую школу, на улице Семашко (Большой Кисловский переулок), а после ноябрьских праздников пошел в новую – на улице Медведева; сейчас это опять Старопименовский переулок.
Мы переехали из коммуналки на улице Грановского (Романов переулок). А до этого мы жили в коммуналке на улице Чернышевского (теперь – Покровка; всё обратно переименовали!).
Первая коммуналка была темная – окна выходили в узкий двор. Вторая и вовсе подвальная. Новая квартира была светлая и огромная – три комнаты. А главное – одиннадцатый этаж! Самый верхний.
Наш новый адрес назывался по-старинному красиво – Каретный ряд. «Ведь в Каретном ряду первый дом от угла…» – была такая песня Высоцкого. Это про наш дом, между прочим. Кстати, Высоцкий потом снимал квартиру именно в нашем подъезде: вот такое совпадение.
Дом был кооперативный, артистов Большого театра и Московской эстрады: почти все – папины и мамины знакомые. Певцы, чтецы, конферансье, танцоры, жонглеры, трубачи, скрипачи, виртуозы-ксилофонисты и даже чревовещательницы – мать и дочь со своей как бы говорящей собачкой.
Как мы попали на одиннадцатый этаж – это отдельная история.
Была жеребьевка – кому на каком этаже жить. Папа вытянул второй этаж и очень огорчился. Он сказал: «Кошмар какой, всю жизнь видеть в окне вывеску: «лососина, осетрина, угорь, миноги» – и всё неправда!» Такая вывеска на самом деле была на магазине напротив. Обломок старосоветской показухи, когда на стеклянных вертикальных досках, золотыми буквами на бордовом фоне, перечислялись небывалые деликатесы.
А тут Леонид Утесов вытащил одиннадцатый этаж. Он сказал моему папе: «Витя, давай меняться! А то вдруг лифт сломается, я просто не дойду до дома!» Папа сказал: «Ура!»
Утесов оказался прав насчет лифта. Месяца три, наверное, мы ходили пешком, уставали ужасно. Но нам все равно нравилось. Мы всё время смотрели в окна. Всей семьей. Потому что нам надоело жить в подвале, где тротуар выше подоконника. Надоело смотреть на засиженный голубями асфальт и ботинки редких прохожих.
Сверху видно было Садовое кольцо, как оно едет от Маяковки к Самотечной и обратно. Невдалеке ребристым айсбергом плыл театр Советской Армии, дальше торчало высотное здание на Лермонтовской и гостиница «Ленинградская» у трех вокзалов.
Садовая тогда была гораздо уже, чем сейчас. Самотечную эстакаду только начинали строить. Посредине Садовой был длинный прямоугольный двухэтажный дом. Когда-то совсем давно там была дешевая гостиница, а тогда – то есть в 1960 году – довольно скверная столовая «Радуга» и какие-то мелкие магазинчики и мастерские. Сверху был виден внутренний двор с ящиками и флягами из-под сметаны.
Дальше была маленькая площадь перед аптекой (сейчас аптеки нет, и тех домов нет тоже – на этом месте московская ГИБДД).
Площадь называлась Угольная. Я сначала думал, что она «Уго́льная» от слова «угол» – правда, она была почти треугольная. Но она оказалась на самом деле «У́гольная», потому что там сто лет назад продавали уголь. А еще раньше она называлась Дровяная. Смешно сказать, но в Москве была своя Сенная площадь – тоже совсем рядом с нашим домом, сбоку от Страстного бульвара, рядом с Екатерининской больницей. Но я что-то отвлекся. Итак, смотрим в окно.
Левее Угольной – если сверху смотреть – было красивое старинное здание XVIII века. Сначала это был дворец графа Остермана-Толстого, а потом Московская духовная семинария – до революции, конечно. А когда я на него сверху любовался, это был Совет министров РСФСР. В ворота все время въезжали черные «волги». Теперь там Музей декоративно-прикладного искусства.
В самом начале семидесятых на Самотечной открылось новое здание кукольного театра Образцова – а раньше он был на Маяковской (теперь снова Триумфальная). Если стать спиной к памятнику Маяковскому, то он был слева от красивого четырехэтажного здания, где внизу «Ростикс» (раньше там был ресторан «София», а наверху – редакция журнала «Юность»). Так вот – новое здание театра Образцова было с огромными музыкальными часами на фасаде. Двенадцать домиков по кругу – на каждый час свой сказочный персонаж. В одиннадцать часов из домика выходил волк. Водку тогда продавали с одиннадцати часов. Это сразу стали называть «час волка». «Ждем, когда волк выскочит», – говорили московские алкаши, переминаясь у магазина.
А в полдень и в полночь наружу показывались все звери. Играла музыка. Перед театром собиралась небольшая толпа: в полдень – туристы и мамы с детьми, а в полночь – веселые подвыпившие граждане. Бывало, останавливались такси, и оттуда вылезали разгульные немолодые кавалеры со своими слегка помятыми, но яркими дамами – этакий шик, притормозить у часов и дождаться механического концерта. «Пусть счетчик щелкает, мне все равно!» Москва жаждала развлечений.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Источник: «Новая Газета», 24.08.2011. Е. Эткинд, «Добровольный крест», мемуарная записка 1955 года