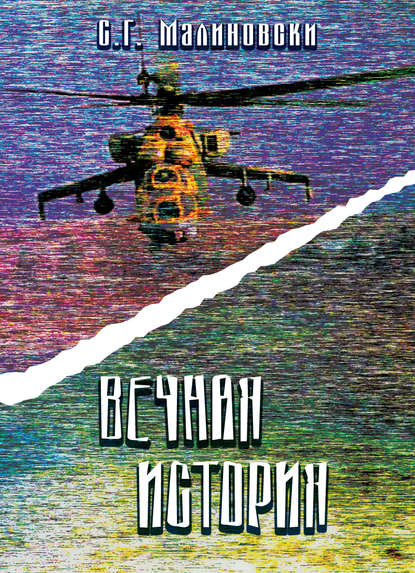Полная версия
Гвардии майор
Видение заволокла мутная пелена, и я почувствовал, что учитель немного зол и смущен своей слабостью. Он еще не был готов рассказать мне все.
– Всему свое время, Петя, – тихо произнес он, – потом все узнаете…
Глава 5
…В конце ноября произошло знаменательное событие. Оказывается, о подвиге нашей Даши узнали в Петербурге, в том числе и лично государь. Император сперва не поверил, что дочь простого матроса, пусть и героически погибшего при Синопском сражении, оказалась способной на столь великий поступок. Я только пожал плечами. Это недоверие показывало только одно: высшее общество не хотело признавать в обычных людях талантов и отваги, кои аристократы почитали исключительно своей привилегией. Но письмо от сыновей Михаила и Николая развеяло его сомнения. Великие князья весьма подробно описали все, что совершила сия простая девица, и император растрогался. Его восхищение зашло так далеко, что он изволил пожаловать ей золотую медаль с надписью: «За усердие» на Владимирской ленте для ношения на груди и пятьсот рублей серебром. Медаль была отлита специально для Даши в единственном экземпляре. Кроме того было объявлено, что при замужестве ей будет пожалована еще тысяча рублей на обзаведение.
Вручение награды состоялось незамедлительно после объявления сего события по всему Черноморскому флоту. Медаль и названную сумму вручали Даше оба великих князя. Более того, государь особо отметил в сопроводительном письме к сыновьям просьбу – расцеловать девицу Михайлову от его имени. Что оба и выполнили с превеликим удовольствием, особенно когда увидели, как хороша девушка, стоявшая перед ними.
Я был искренне рад за Дашу, хотя, честно говоря, немного растерялся. Владимирская лента – вторая по значимости после Андрея Первозванного. Владимира вручали только генералам. Иосиф же Дитрихович, наоборот, воспринял данное награждение как нечто само собой разумеющееся. Он вообще не понимал, как Дашу можно было наградить чем-то меньшим.
Все севастопольские вампиры широко отпраздновали это событие. Даша же совершенно смутилась. Более всего ее испугала сумма, прилагаемая к медали, и металл, из которого медаль была отлита.
– Куда ж я такую прорву деньжищ дену? – спрашивала она. – Да и за медаль боязно, а ну как украдут?
– Дарья Лаврентьевна, – целуя ей руку, улыбнулся Тотлебен, – вы же любого налетчика в бараний рог скрутите. Зачем же о всякой ерунде опаску иметь?
Даша задумалась, а потом, по-детски ойкнув, сказала:
– Запамятовала совсем.
На этом ее тревоги прекратились, и она с легкой душой смогла принять участие в празднике. Ближе к утру я заметил, как Даша выскользнула из комнаты. Стараясь не привлекать внимания, дабы не скомпрометировать девушку, я вышел следом.
Даша стояла на веранде, задумчиво глядя на море. Услыхав мои шаги, она неожиданно сказала:
– Петр Львович, вы представляете, меня поцеловали сами сыновья государя! Боже! Почему батюшка не дожил? Как бы он был счастлив!
– Вам понравились цесаревичи? – поинтересовался я, хотя собирался сказать совсем другое.
– Очень! Они так пригожи! А я, просто… – Она сбилась от волнения.
– Вы им тоже понравились, – мрачно буркнул я (вместе с полковником мне посчастливилось присутствовать при сем знаменательном событии), – я слышал, как они, беседуя между собой, говорили, что если бы все придворные дамы походили на вас лицом и статью, то они жили бы в раю.
Даша мило покраснела.
– А я вот не слыхала ничего, – жалобно вздохнула она, – мне было так неловко и стыдно… Ведь при всех целовали-то… А почему, Петр Львович, вы так сердиты? – Она наконец обратила внимание на мой хмурый вид.
– Потому что вам понравились они, а мне нравитесь вы, Дарья Лаврентьевна, – решился признаться я.
Мы несколько минут стояли молча, после чего она сказала:
– Вы мне тоже нравитесь, Петя, но сейчас это невозможно. Я дала обет – до окончания осады оставаться девицей. Да и сговорена я уже. Батюшка еще до Синопа сговорил с матросом Хворостовым…
– Но вы ведь не можете!.. Особенно теперь… Даша, как же так? – в полном смятении зашептал я.
– Я должна исполнить последнюю волю отца, – с непоколебимым спокойствием и уверенностью в своей правоте ответила она. – Да и Максим хороший человек, и деньги ему нужны. Я уж и с учителем говорила. Он сказал, что поможет.
– Но так нельзя!
– Только так и можно. Вот когда я все сделаю, тогда у нас, глядишь, что и сладится. – Она помолчала и добавила: – Пойдемте, Петя, нас будут искать.
На этом наши объяснения прервались. Я был поражен, но не смел докучать Даше и далее. Раз ей для собственного спокойствия надо сходить замуж, значит, так тому и быть.
Учитель одобрил мое решение, но встречаться нам с Дашей еще какое-то время было неловко. Однако постепенно все наладилось.
Даша осталась прежней, отзывчивой и милой, тщеславие ее выразилось только в одном – теперь она всюду ходила с заветной наградой, решив таким образом вопрос с охраной. Деньги, по-моему, она потратила на госпиталь, но не уверен, поскольку не считал возможным спрашивать…
За всеми этими событиями время текло совершенно незаметно. Рождество мы встречали в боевых условиях, да и союзники в последние дни слегка поутихли.
На следующий день после обеда полковник выглянул на улицу. Убедившись, что небо плотно затянуто тучами и сеет мелкий противный дождик, он вручил мне бумаги и приказал доставить их Нахимову. Увязая в грязи, я отправился в ставку. К счастью, по пути мне встретилась подвода, на которой я и доехал до штаба вице-адмирала.
Павел Степанович принял меня сразу. Взяв пакет, он нетерпеливо махнул в сторону ближайшего стула:
– Садитесь, господин поручик-с. Подождите-с, я дам ответ-с.
Я присел, слегка улыбаясь. Приверженность Нахимова к пресловутому «-с» была известна всем. Я же за время общения с полковником и обучения у него отвык от этого. Александр Никифорович терпеть не мог постоянно повторяющихся слов или букв, которые не несли никакой смысловой нагрузки: «Эти слова, Петя, засоряют речь, – говаривал он, – а если вы, имея в запасе все неисчислимое богатство русского языка, не можете подобрать нужного слова или найти ему аналог в иностранных языках, то грош вам цена как образованному человеку».
Надо сказать, что с русским, немецким и французским у меня был полный порядок. А вот английский, древнегреческий и латынь весьма сильно хромали, но, судя по тому, как учитель занимался со мной, этот пробел обещал скоро исчезнуть.
К Нахимову упрек полковника, конечно, никоим образом не относился. Могучий интеллект и талант вице-адмирала стояли настолько высоко над окружающими его людьми, что критике просто не поддавались.
Пока Павел Степанович писал ответ, я развлекался тем, что прощупывал окружающих. Неожиданно я уловил знакомые излучения, и в комнату ворвался тот самый скандальный майор, который ругался с Тотлебеном некоторое время назад. Как и положено офицеру, он сдержал слово и пошел жаловаться.
– Господин вице-адмирал! – то ли гаркнул, то ли проскулил скандалист.
Нахимов оторвался от письма, пытаясь понять, кто это и зачем пришел. А жалобщик, вдохновленный молчанием Нахимова, продолжал:
– Позвольте доложить вам о произволе и неблаговидных поступках инженер-полковника Тотлебена Эдуар…
Он не успел закончить. Заинтересованность на лице вице-адмирала сменилась раздражением, он гневно нахмурился, отложил бумаги и ровным ледяным голосом произнес:
– Жаловаться? На Тотлебена? Подите вон-с!
Майор замолчал, словно его обрезали. Несмотря на то, что Нахимов говорил тихо и вежливо, он понял, что вице-адмирал разгневан. Уже через минуту наглеца в штабе не было.
Нахимов глянул на меня со слегка виноватым выражением лица и протянул пакет. Я откозырял и удалился.
Вручив ответ учителю, я рассказал о сцене, которой был свидетелем. Полковник кивнул:
– Прискорбно наблюдать, как люди, облеченные властью и призванные защищать Отечество, проявляют, даже в боевых условиях, печальное скудомыслие.
Я оторопел. Учитель весьма редко сбивался на столь выспренний штиль. А он тем временем продолжал:
– Господин вице-адмирал подтвердил: неисправные ружья более не поступали. Господин Шлиман отстранен от военных поставок. – Он подмигнул, показывая, что торжественная часть окончена.
А я искренне обрадовался:
– Слава богу! Главное, чтоб теперь вообще поставки не прекратились.
– Это исключено. Подумайте, Петя: кто откажется от такой кормушки? Сейчас там драка идет, чтобы место Шлимана занять.
– Учитель, зачем ему это? Такие деньги на взятки потратить – и поставлять негодные вещи. Неужели ему мало? Ведь он и так сказочно богат.
– Петя, не заставляйте меня краснеть из-за вашего нежелания как следует подумать. Покупает он неисправные ружья за копейки, а продает как новые.
– Хорошая разница, – согласился я, старательно игнорируя замечание учителя насчет моих умственных способностей.
– Петенька, когда вы, наконец, поймете: для большинства людей денег никогда не бывает много. А для авантюристов их всегда мало. Люди такого сорта думают, что за деньги можно купить все. И поэтому чаще всего покупают власть.
– Но у Шлимана власти нет.
– В его границах – есть. Но он покупает не власть, а возможность заработать еще больше. Причем, заметьте, любым нечестным путем. Только Гомера он любит искренне и так же бескорыстно ищет свою Трою, но если найдет ее, просто ограбит – ведь там золото… Так что для него важны только деньги ради денег.
– Но ведь это болезнь! – возмутился я.
– А кто вам сказал, что он здоров? Приблизительно треть населения Земли нездоровы совершенно таким же образом. Однако достаточно о пустяках. Давайте проверим, как вы выучили урок.
И он перешел на древнегреческий…
В связи с войной Новый год отмечали в окопах. Для союзников это был обычный день, ведь праздновали они двенадцать дней назад. Тогда мы им не мешали. Сегодня они тоже дали нам передышку. Воспользовавшись этим, Кошка быстренько сбегал на вылазку и привел трех пленных французских офицеров, полностью груженных провизией. Французы выглядели ошеломленно. Они никак не ожидали такого поворота событий, а самым обидным было то, что их пленили с помощью одного только ножа. Но мы сегодня были добрые и, дав им ради праздника по стакану водки, отправили восвояси, после чего, забравшись в редут, устроили маленькую пирушку.
Было очень весело и мило. Французский коньяк, прекрасная жареная баранина, изумительный на вкус пармезан, настоящий кофе и восхитительные американские сигары.
Присутствовали все местные вампиры. Кроме Даши праздник удостоили своим присутствием еще три наши дамы, и, естественно, это очень оживило собрание. В середине веселья появился даже Магистр.
Тотлебен, выпив рюмку коньяку и выкурив сигару, удалился. Работы у инженер-полковника всегда было много, даже в новогоднюю ночь. А в этот раз ему достался особый наряд. Нахимов приказал всем офицерам, недовольным фортификационными работами, на эту ночь прибыть в распоряжение господина Тотлебена для проведения этих самых работ. Досадным для меня было то, что с Эдуардом Ивановичем ушла и Даша. Пирогов оперировал в любое время суток, а она часто ассистировала ему. Как он только выдерживал такой темп, не будучи вампиром? Не знаю…
Адаптация моя почти закончилась, и жизнь приобрела новые краски. Теперь я снова мог выходить в любое время дня и радоваться солнцу (хотя во время боя его почти не видно из-за дыма). Но главное – то, что теперь наравне со всеми я участвовал в боях. Это приносило мне искреннее удовлетворение.
В конце января полковник направил меня на усиление городских позиций.
Попав в город, я ужаснулся. Как здесь еще жили люди, понять было невозможно. Артиллерия била непрестанно. В воздухе висела взвесь пыли и дыма. Но под непрекращающимся обстрелом люди продолжали жить и сражаться. Даже дети, которые оставались в городе, вносили в оборону свою лепту.
Я видел, как двое восьмилетних мальчишек заливают водой бомбу, а потом, засунув ее в пустое ведро, тащат к ближайшей орудийной позиции.
Взвод, в который я попал, прикрывал батарею, которой командовал мой бывший подопечный – поручик Толстой. Я от души порадовался за него. Просто так в Севастополе званий не давали. Эх, если б к этим званиям прилагались еще и ядра!
За время моего пребывания в городе мы весьма неплохо познакомились. До дружбы дело, конечно, не дошло. Кроме того, что он граф, а я родом из служилого дворянства, Лев Николаевич оказался довольно замкнутым человеком. Но война сближает и не такие противоположности. И действительно, когда ты день за днем стоишь под обстрелом плечом к плечу со своими соратниками, перестаешь так уж строго следовать условностям, таким важным в мирное время. Стирается грань не только между выходцами из разных слоев общества, но и между офицерами и солдатами. Остаются только обращения по званию да беспрекословное выполнение приказов (я говорю об умных офицерах).
Мы и жили-то все вместе, оборудовав под казарму несколько комнат в полуразрушенном доме рядом с батареей. Вечерами, когда обстрел прекращался, пушки приводили в порядок, солдаты получали пищу, помощь, ежели таковая требовалась, и свой законный стаканчик водки. Мы уходили к себе, ужинали и говорили. Говорили обо всем, иногда забывая об отдыхе.
Лев Николаевич был великолепно образован и умен. Но его усталый цинизм, временами прорывавшийся сквозь бесшабашную удаль и светское воспитание, частенько коробил меня. Я понимаю, когда человек прожил несколько сотен лет, неизбежно вырабатывается какая-то доля цинизма в подходе к жизни, как, например, у Прокофьева или того же Гольдбера, иначе не выжить, но, несмотря на это, всепобеждающая радость жизни всегда преобладала в них. Вампиры, как я уже успел убедиться, предпочитали философски относиться ко всем неприятностям и искать в жизни светлые стороны. У Толстого же все было наоборот, что странно и неприятно контрастировало с его молодостью и положением в обществе.
Но мы были действительно молоды и не придавали большого значения таким пустякам, как неприятные черты характера. Тем более когда тебя в любую минуту караулит смерть. Меня, конечно, это касалось несколько меньше, хотя в английском лагере на днях погиб вампир – наступил на гранату. Повреждения оказались настолько тяжелыми, что спасти его не удалось. Как мрачно заметил капитан Федоров:
– Когда в теле совсем нет крови, восстановление невозможно.
Даша не преминула спросить у Гольдбера: правду ли сказал господин Федоров? И насколько хорошо восстанавливается наш организм? Порезы и царапины не в счет.
– Регенерирует, Дашенька, у нас любая часть тела. При условии, что все остальное в порядке и крови в организме имеется достаточно.
– Что, и голову можно отрастить? – лукаво спросила она.
– Голову нельзя, а вот руку или ногу – пожалуйста. Правда, это длительный процесс, и крови для него нужно огромное количество.
Именно поэтому я не очень беспокоился за свою скромную персону. С учителем я встречался в редких паузах между боями. И хотя я его все время чувствовал, но, честно говоря, без постоянного общения с ним скучал. Когда полковник приходил к нам, он тоже с удовольствием беседовал с Толстым и очень одобрительно отзывался о его стиле командования.
– Мне он тоже нравится, – признался я, – если бы еще он был более общительным, цены бы ему не было. А как вы думаете, учитель, его можно приобщить?
– Нет, – спокойно ответил полковник, но сказал как отрезал, – нам только истериков не хватало…
* * *Дойдя до этого места, я отложил записки и ухмыльнулся. Я знал этот зуд, когда любого человека рассматриваешь только как потенциального ученика. Уж очень хочется поделиться с кем-нибудь силой, знанием, жизнью. Особенно это относится к действительно талантливым людям. Но учитель задумался над этим гораздо раньше, чем мы с Катькой. Правда, и Толстой – это величина, причем не дутая. И, наверное, общаясь с ним каждый день, майор мог лучше оценить его. Я же Толстого просто не любил. Не знаю, каким он был в молодости, но в зрелом возрасте Лев Николаевич превратился в настоящего фарисея. К чему, например, бравировать отказом от мяса, если вегетарианская каша варится на телячьем бульоне? Да и его нарочитая простота и обращение к народности тоже раздражали. Но как бы я ни относился к нему, нельзя было не признать того вклада, который он внес в мировую культуру. Хотя его философию я считал искусственной и неприспособленной к жизненным ситуациям.
Катька, возмущенно фыркая, согласилась со мной и утащила меня в сауну.
– Почитать мы и потом успеем, – ласково улыбаясь, сказала она, – а вот то, что скоро нам назад ехать, более важный фактор.
Ее многозначительная нежность отбивала любое желание спорить, да и спорить в этом случае было не о чем. Поэтому до записок мы добрались, уже возвращаясь домой. Месяц, проведенный с любимой, более того, с женой, без строгого глаза родителей, наполнил меня силами и бодростью. Мы были жутко довольны и горды собой. Мы сумели обойти все запреты и отдохнуть, как нам хотелось. Теперь можно с чистой совестью вновь впрягаться в работу.
– Кстати, – сладко пропела Катерина, удобно устраиваясь в кресле, – а где записки твоего папочки? Что-то ты совсем забросил его задание.
Я хотел возмутиться, но она так нежно поцеловала меня, что все недовольство улетучилось, не успев как следует оформиться.
– Здесь они, – я совершенно серьезно вытащил папку, – только читать тебе придется отдельно. Я уже большую часть изучил.
– Как ты мог! – вскинулась она. – Когда?
– Днем. Ты спишь, а я читаю…
Катя от обиды глухо рыкнула. Потом покосилась на меня и мрачно буркнула:
– Врешь ты все, и голова у тебя в тумбочке!
– Ну, вру, – согласился я, – давай читать…
* * *Сегодня я узнал, что и для вампиров бывают опасные раны. Уже несколько дней, начиная с конца января, противник наращивал силы по всему осадному периметру. Участились атаки, усилились бомбардировки. Отбиваться становилось все трудней. Мы метались по позициям, поддерживая людей там, где было жарче всего. Во время одной такой атаки был тяжело ранен Кошка.
С момента ужесточения осады учитель забрал меня с городских укреплений и определил в мобильный резерв. В тот день мы только отбили штурм четвертой батареи, когда меня нашла сестра милосердия и передала записку от Даши. Прочитав, я не поверил своим глазам. Учитель разговаривал с генералом Хрулёвым, беседа шла серьезная, но и сообщение, которое я получил, было неординарным. Поэтому я рискнул.
– Господин генерал, разрешите обратиться к господину полковнику, – оторвал я учителя от беседы.
– Обращайтесь, поручик, – разрешил Хрулёв устало, снимая фуражку и вытирая лоб платком.
Прокофьев повернулся ко мне:
– Что случилось?
– Ранен матрос Кошка! – доложил я, передавая остальные подробности мысленно.
– Как ранен? – Хрулёв взволнованно шагнул ко мне. – Когда?
– Пару часов назад. Сейчас он в госпитале.
– В каком? – Хрулёв и Прокофьев задали вопрос одновременно.
– На Михайловской батарее.
– У Пирогова, – с облегчением вздохнул генерал, – значит, обойдется. Чего тебе, голубчик? – Вопрос адресовался подошедшему к нам солдату.
– Ваше высокоблагородь, извиняйте, это правда, что Кошку ранили?
– Правда, – кивнул генерал, – но он жив и, думаю, выздоровеет. А вы, господин поручик, соблаговолите доложить более подробно. И так, чтобы все слышали.
– Ранен штыком в грудь. Раздроблены ребра, задето легкое, вырван кусок мяса. Из боя не ушел, – сообщил я. Полковник только хмуро покачал головой. – Господин Пирогов считает, что Кошка выздоровеет, только… – Я замялся.
– Говорите, поручик, – подбодрил меня генерал.
– Он считает, что для скорейшего выздоровления Петру Марковичу необходимо влить несколько литров крови.
Хрулёв понимающе кивнул. Степан Александрович был осведомлен о нашем существовании и присутствии в городе. Также он знал об опытах по переливанию крови в мире и в Севастополе, в частности. От размышления его отвлек тот же солдат:
– Ваше высокоблагородие, господин генерал, разрешите отлучиться в Михайловский госпиталь? Нешто у нас крови для Кошки не хватит!
Хрулёв посмотрел на стоявшего перед ним измученного коренастого мужчину, который смотрел на него с требовательным ожиданием. Лицо генерала дрогнуло:
– Разрешаю. – Он проводил взглядом торопливо спускающихся по склону солдат и обратился к учителю: – Замечательные все же люди у нас, господин полковник. Они и незнакомому помогут, а для друга – жизни не пожалеют. А Кошка – он теперь для России вроде талисмана, и смерть его будет очень некстати.
– Да уж, – полковник задумчиво смотрел на гору, перепаханную взрывами, – тем более что такая рана и для нас опасна. А сейчас, кажется, нам опять придется воевать, – добавил он, указывая на поднимающихся из окопов солдат…
Только к вечеру мы наконец добрались до Михайловской батареи. Вокруг госпиталя толпился народ, а служители находились в полуобморочном состоянии. Они никак не предполагали, что простой матрос окажется такой важной персоной. Столько посетителей не было ни у одного генерала. Здесь уже побывали адъютанты всех командующих, включая Нахимова и Истомина, а также посыльный от великих князей. Измученный Пирогов еле успевал выпроваживать посетителей, то и дело приговаривая:
– Имейте совесть, господа! Здесь госпиталь, а не театр! – Увидев нас, он облегченно вздохнул и, проводив в палату к Кошке, сообщил: – Вот теперь вы сами и охраняйте, а то они сейчас его на мощи разберут.
Я посмотрел на Кошку. Он был страшно бледен, глаза запали, черты лица заострились. Дышал Петр Маркович тяжело, красная пена пузырилась на губах. Рядом сидела Даша и через каждые двадцать минут вводила раненому кровь.
Тихо скрипнуло окно, и Пирогов возмущенно завопил:
– Да что же это такое! Я их в дверь, так они в окно лезут!
Пришлось нам занимать круговую оборону. Пока Пирогов с Дашей занимались Кошкой, мы с полковником прикрывали их от натиска посетителей. Капитан Федоров прибыл чуть позже с Малахова кургана и остался с учеником на ночь.
Известие о ранении Кошки всколыхнуло всю Россию. В госпиталь хлынул поток писем, денежных пожертвований, подарков и продуктов. Прокофьев от души смеялся и говорил:
– Хохол даже из своей смерти выгоду извлечет!
Кошка, слушая его, только весело скалил зубы, не чинясь принимал деньги, которые немедленно передавал в армейскую казну, со вкусом уплетал сало, угощал нас и кормил весь госпиталь. Пирогов по этому поводу шутил:
– Выйдете на позиции, батенька, я вас еще разок, лично раню. Благо теперь знаю как. Глядишь, и снабжение города наладим.
К моменту выхода из госпиталя Кошке сообщили об очередной награде. К Георгию и нескольким медалям добавился еще один Георгиевский крест. Любовно полируя награды, Петр Маркович гордо кокетничал:
– И що мэни з ными робыты? О! Прыдумав! Куплю кадку та й засолю! А доки кадушки нема, трэба носыты…
После выписки нашего героя пригласили к великим князьям. Оба цесаревича горели желанием увидеть легендарную личность. И Кошка не ударил лицом в грязь. Ничуть не смущаясь столь высоких особ, он сыпал шутками, байками и в лицах изображал, как бьет французов. Короче, театр одного актера. Великие князья были в полнейшем восторге.
– Боже, как он забавен! – смеясь, воскликнул младший из князей, когда Кошка завершил развлекательную программу.
– Он не так прост, как ты полагаешь, – отозвался старший брат…
Учитель Кошки тоже остался весьма доволен его выходом в свет. Равно он гордился теми успехами, которые его воспитанник делал в изучении наук.
– Подождите лет двадцать, – самодовольно заявлял Федоров, – он еще ученым станет и всех вас за пояс заткнет.
Но пока об этом можно было только мечтать. По-прежнему рвались бомбы, гремели ружейные залпы и гибли люди…
Как-то поздно вечером мы с Кошкой сидели на равелине, отдыхая после тяжелого дня и ночной вылазки. Хмурое море вело себя на удивление спокойно, лишь на выходе из бухты то и дело расходилась легкая рябь. Если присмотреться как следует, можно было заметить верхушки затопленных парусников.
– Вон там, – неожиданно вздохнул Кошка, – моя «Силистрия» лежит, а рядышком «Ягудиил» упокоился. Недолго я на нем походил. И как только Павел Степанович на такое дело решился, не понимаю.
Я покосился на него. Куда только девался его украинский, когда он попадал в свое окружение. Лихой матрос исчезал. Перед нами представал умный, воспитанный, интеллигентный человек. Может быть, не очень образованный, но безусловно интересный. На людях же он продолжал играть роль обычного матроса – весельчака и балагура.
– Так проще, – объяснял он.
Не знаю, как проще ему, но мне больше нравился тот Кошка, который в данную минуту сидел рядом со мной. А бесшабашный вояка меня постоянно настораживал. От него можно было ждать всего, он казался непредсказуемым.