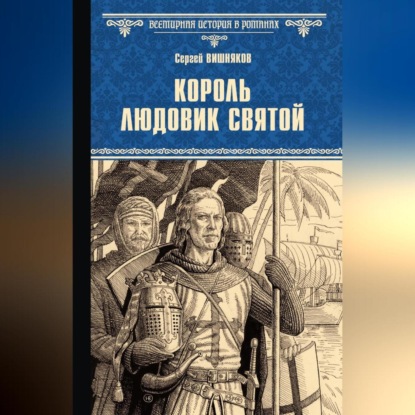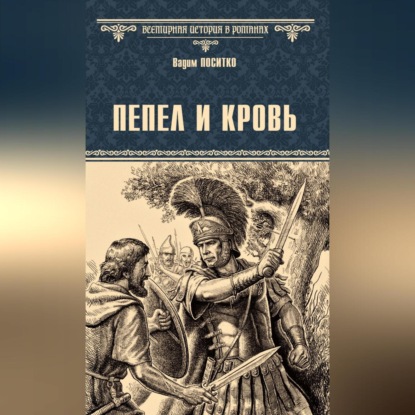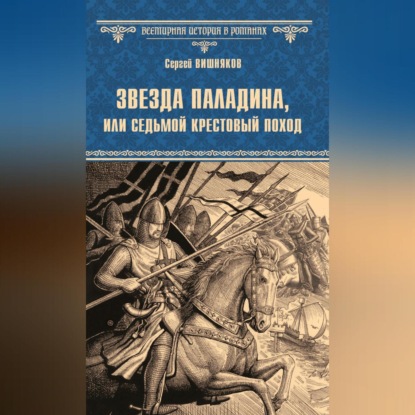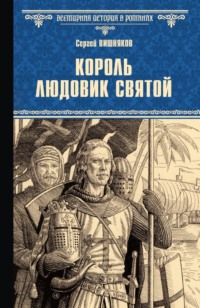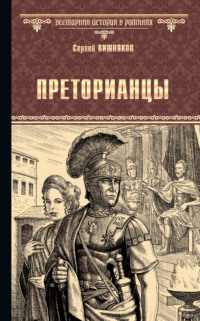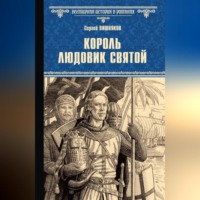Полная версия
Звезда паладина, или Седьмой крестовый поход
– Это хвост, но не дракона, а обычного животного, – уклончиво ответил капеллан.
– Какого? Я знаю, как выглядят хвосты коров, быков, коз, овец, лошадей, волков! Но он совсем на них не похож…
Вопросительные взоры дам обратились на капеллана.
Отец Филипп покраснел, но не растерялся.
– А много ли вы видели животных, юноша? Кроме перечисленных вами Господь создал много живых тварей, и не все они обитают там, где непосредственно живем мы. Много ли вы бывали в других странах или землях?
– Нигде я не был, святой отец, – удрученно ответил Бертран.
– Поэтому ты многого и не знаешь, – наставительно сказал капеллан. – И покончим на этом.
– Но все-таки, чей же это хвост?
Отец Филипп быстро прикинул, какого животного не знает не только шевалье, да и баронесса с дочерью.
– Гипоппотама хвост. Слышал о таком?
– Гипо…? Что? Татама?
– Животное такое. Большое, толстое, с огромной пастью. Почти что дракон. Но не дракон. В Африке живет.
– А где это, в Африке? Далеко от Монтефлера?
– Далеко, сын мой, совсем далеко.
Бертран был сконфужен. Он не знал, что ему теперь делать. Оставаться в Монтефлере после неудавшегося вручения реликвии он не мог, но и уходить совсем не хотел, ведь Катрин находилась рядом и смотрела на него, а Бертран на нее.
И тут на помощь шевалье, сам того не подозревая, пришел Генрих де Сов.
– Уж не то ли это пузатое чудовище с огромной пастью, которое ты мне показывал в подвале часовни?
– Он самый, господин, – услужливо ответил капеллан.
– У вас в часовне водятся гиппопотамы? – удивился Бертран.
– Нет, что ты, Бертран! – воскликнула Катрин. – Просто несколько лет назад в подвале часовни проводили ремонт, боялись, что часовня может завалиться, и осматривали фундамент. Тогда и обнаружились удивительные картинки! Отец Филипп, расскажите, это очень интересно!
– А что тут говорить? Их надо видеть! Баронесса, позволите ли вы показать шевалье подвал часовни?
Изабелла де Фрей не возражала.
Спустившись во двор замка, капеллан, Бертран, Катрин и Генрих де Сов прошли в часовню, где по лестнице спустились под пол. Там в одном углу подвала при свете зажженного отцом Филиппом факела виднелся раскоп – широкая площадка, напоминающая плиту, состоящая из множества цветных камешков, которыми были выложены фигурки зверей и охотящихся на них людей. Удивленный Бертран рассматривал львов, за которыми мчались конные воины с копьями и щитами, из болот взлетали утки, а охотники стреляли в них из луков, из реки выходили гиппопотамы, слоны мирно паслись среди деревьев, а группа людей о чем-то совещалась, указывая на них. Капеллан во время осмотра всё пояснял зрителям.
– Но откуда здесь эта удивительная находка? – спросил восхищенный Бертран.
– Слышали ли вы о римлянах, молодой человек? – спросил отец Филипп.
– Нет.
– Как мне объяснить вам, если вы меня все равно не поймете?
– А я постараюсь, отче, мне очень интересно!
– Ну, хоть о Понтии Пилате знаешь что-нибудь?
– Да, он Господа нашего распял.
– Понтий Пилат был римлянин. В те времена все римляне поклонялись языческим богам, лишь потом они узрели свет истинной веры. Так вот, я уже рассказывал юной баронессе и господину де Сов, что раньше этими землями, как и всей нашей Францией, владели римляне. Предки тех, кто сейчас живет в Италии, где правит папа римский. Они захватили много стран, потому как были очень воинственными. Римляне построили много городов – Париж, Орлеан, Реймс, Вьен, Авиньон, Арль – всё они построили. Да еще много каких! Они жили на этих землях. И так же, как мы сейчас, разводили виноград, делали вино. Мы им обязаны виноградарству! Дома свои они украшали вот такими мозаиками, как эта. Цветные камешки склеивали, создавая целые сцены и даже повествования! Думаю, что здесь, на месте Монтефлера, в римские времена стояла вилла. А что? Место красивое, выгодное – на возвышенности, вся округа видна. Потом, конечно, Римская империя пала, возникли другие государства, такие как наша Франция, старые виллы разрушились от времени или людьми, и постепенно о них все забыли. Потом на этом месте стали снова селиться люди. Появился Монтефлер.
– Наверное, здесь много еще мозаик раскопать можно? – спросила воодушевленно Катрин.
– Можно, дитя мое. Но опасно. Здесь ведь фундамент часовни. А ну как она рухнет, если копать дальше начнем? Но я надеюсь еще хоть немного расширить раскоп, вот сюда, в нашу сторону.
– Откуда вы всё это знаете? – зачарованно глядя на мозаику, спросил Бертран. – Кто вам рассказал об этих римлянах?
– Книги, сын мой.
– Книги… – удрученно вздохнул шевалье. – Как, должно быть, здорово понимать, разбираться, знать. А я и букв никаких не знаю…
– А меня отец Филипп научил читать! – хвастливо заявила Катрин.
– А не могли бы вы и меня поучить, святой отец? – спросил с надеждой Бертран, видя в этом возможность встречаться с Катрин постоянно и открыто.
– Конечно, сын мой! С удовольствием!
– Вот только я не могу вам сейчас заплатить, просто я…
– Не волнуйся, шевалье, мне ничего не нужно. Я служу Богу.
– И тебе бы, шевалье д'Атталь, надо Богу служить, священником стать. Реликвии вон как ты чтишь! – усмехнулся Генрих де Сов. – Рыцарю не пристало за книгами корпеть, меч – наша сила, а не слово.
– А я еще и не рыцарь, господин.
– А это и видно. Был бы ты рыцарем, не имел бы в голове ненужных мыслей. Отец Филипп и так тебе расскажет на проповеди что да как со Святым писанием, да и про животных и другие всякие вещи тоже. Рыцарь сюзерену своему служить должен и Богу. Сейчас все в Святую землю собираются. Не думал ли ты о походе? Всю жизнь хочешь буквы изучать, вместо того чтобы на деле показать, что по крови ты благородным человеком рожден? Рыцарем стать не хочешь?
– Хочу! Конечно, хочу!
– Подумай над моими словами.
Бертран д'Атталь почти сразу же забыл, о чем ему говорил де Сов. По разрешению баронессы Изабеллы он стал регулярно появляться в замке, где капеллан стал учить его чтению. Отец Филипп отметил у парня хорошую память и желание постичь науку, однако с прилежанием появились проблемы. Очень быстро капеллану стала понятна истинная цель Бертрана – приходить в Монтефлер якобы для занятий, а на самом деле чтобы увидеть Катрин. Девушка тоже часто посещала уроки капеллана, а если и не приходила, то Бертран мог увидеть ее во дворе или в каких-нибудь помещениях замка. Шевалье любовался ею, не отваживаясь ни на что большее. Последнее обстоятельство радовало отца Филиппа, ведь он понимал, как ничтожны шансы юноши добиться успеха.
Катрин быстро привыкла к Бертрану, подружилась с ним. Ей стало интересно узнать о молодом человеке побольше. Однажды она сама отважилась пригласить его на прогулку к реке, при этом ничего не сказав матери, заранее зная, что она не одобрит такое поведение.
Пока Катрин не исчезла за горизонтом, Бертран все смотрел ей в след, затем, вздохнув, пошел к себе домой. Он свернул с пыльной дороги и брел среди цветущих полей, поглядывая в небо. Вскоре появились шесть домов его крестьян, стоящие полукругом, а в центре возвышалась небольшая каменная башня – дом Атталей.
Когда-то башня была донжоном замка и рядом находились другие каменные помещения, опоясанные стеной, зиял неглубокий и заболоченный, но ров. Да и домов крестьян стояло больше. Но Аттали прошли через тяжелые времена. Ров давно засыпали, стены разрушили, как и часть зданий замка. Остался только донжон, да и он из крепостной башни превратился просто в трехэтажный, вытянутый вверх, дом с худой крышей, поросшими мхом камнями стен, к которым крестьяне пристроили кухню, курятник, свинарню и конюшню, – и все такое хилое, маленькое – под стать самому имению.
Перед домом Бертрану повстречались несколько ленных крестьян, шедших на работу на свои земельные участки. Крестьяне шумно и радостно приветствовали своего сеньора. В ответ он, улыбнувшись, пожелал им хорошей работы.
Крестьяне любили молодого шевалье. Простоватый и невзыскательный Бертран, без определенных целей в жизни, не драл с работяг три шкуры, практически не вмешивался в их жизнь, что позволяло им скапливать излишки и даже продавать их. Словом, крестьянам жилось хорошо. Кроме ленных были у Бертрана д'Атталя еще пятеро безземельных крестьян с семьями, которые жили в его башне или подсобных помещениях, выполняя работу слуг, свинарей, конюха, кухарок, а также виноградарей. Им тоже жилось неплохо. Молодой хозяин в еде был неприхотлив, к бардаку и грязи относился равнодушно.
При таком подходе у шевалье в хозяйстве и дома все быстро пошло бы прахом, если бы не кормилица Мадлен ле Блан и ее муж Жан ле Блан, служивший Роберту д'Атталю оруженосцем. Дети их все умерли во младенчестве, и они всю жизнь посвятили служению семье Атталей. На этих двух честных людях и держались финансы, да и вся жизнь в имении.
Бертран вошел в башню, хлопнув тяжелой дверью. Это явилось для Мадлен сигналом, что господин в растревоженных чувствах. Кормилица – дородная, но проворная женщина около шестидесяти лет, в белом чепце, безукоризненно белом переднике поверх серого платья, вышла навстречу.
– Что стряслось, Бертран? – спросила она.
– Ах, Мадлен! – только и ответил молодой шевалье, бросившись на лавку, мечтательно запрокинув голову и уставившись в балки под потолком первого этажа.
– Мальчик мой, Катрин де Фрей не для тебя! – усаживаясь рядом, ласково, но в то же время твердо сказала Мадлен. – Она баронесса!
– Откуда ты знаешь, кормилица?
– Да как тут не догадаться? Ты постоянно ездишь в Монтефлер, возвращаешься сам не свой, ничего вокруг не замечешь, ешь плохо, молчишь. Ясно же, что влюбился! Да и пока тебя сейчас не было, приходил человек из Монтефлера, спрашивал не здесь ли молодая госпожа, ее ищет мать.
– Эх, Катрин будут ругать! – воскликнул в отчаянии Бертран, подозревая, что наверняка девушка теперь не сможет встретиться с ним наедине, а может быть, его и не пустят больше в Монтефлер.
– Бертран, тебе бы надо взяться за ум! Ты видишь, наследство твое совсем небогато. Тебе бы больше с моим Жаном бою на мечах тренироваться. Может, на службу поступить к графу Тулузскому, если барон, твой сюзерен, тебя не замечает, или в Париж ехать, судьбу устраивать. Ведь здесь, забавляясь рассказами случайно забредших на ночлег монахов да торговцев, распивая вино с крестьянами, праздно шатаясь, ничего не добиться в жизни. А ведь тебе уже двадцать лет! В твоем возрасте на турнирах побеждают, в походы ходят, а ты хочешь, как твой отец?
– Опять ты за свое, кормилица! Устал я это слушать!
Он уже не раз так отмахивался от наставлений Мадлен, но теперь они уже не казались ему брюзжанием. В словах кормилицы все яснее виделась ему горькая правда, которую раньше он старался не замечать.
Бертран, раздавленный унынием, поднялся по винтовой лестнице в свою комнату. Если раньше он влетал в комнату и плюхался на кровать, то теперь он медленно толкнул дверь и вошел не спеша. Кровать со старым пыльным балдахином, грубо сбитая, помнила еще болезненные вздохи деда Бертрана. Две лавки, пара сундуков по углам, стол с кувшином и свечой – вот и вся обстановка. Серый камень стен, один факел, зажигаемый ночью. Старая шкура волка у подножия кровати.
Впервые он посмотрел на комнату взглядом хозяина, а не ребенка. Он не мог представить здесь Катрин. Бертран подошел к сундуку, открыл его: камизы, котты, штаны, плащ – все такое невзрачное, хоть и чистое, и аккуратно сложенное. Тут же кожаный кошель, из которого на ладонь выпали пять денье. Потертые – имя короля Людовика лишь угадывается, латинские буквы почти сливаются друг с другом, схематическое изображение замка все расплылось, и только крест – суровый, простой, непоколебимо смотрит с другой стороны монеты. Бертран подумал, что и его маленький замок вот так же, как и на монете, постепенно исчезает, расплывается среди крестьянских построек, а его собственный крест – судьба шевалье д'Атталя, незамысловата и незавидна. Впрочем, крест – это ведь не только тяжелые обстоятельства, но это, в первую очередь, христианская вера. Крестовый поход… О нем ведь говорил Генрих де Сов, дядя Катрин. Бертран усмехнулся – какой там поход, он не мог себя представить без своего дома-башни?! Да и доспехи и оружие у него старые, еще дедовские, сложены в соседней комнатушке, куда он давно не заглядывал.
Бертран подошел к дверце за кроватью и, потянув за круглое заржавленное кольцо, вошел в свое детство.
Каморка в пять шагов в длину служила ему спальней много лет. Расположенная между комнатами отца и деда, изначально предназначенная для прислуги, она стала жилищем Бертрана, когда он после смерти матери подрос и уже не нуждался в люльке. Сначала с ним жила кормилица, а когда малыш стал мальчиком, она приходила лишь несколько раз в день. Бертран рос, глядя на пустые стены, на небо и виноградник, открывавшиеся из единственного маленького окна, скорее похожего на бойницу, играя двумя деревянными кониками и двумя деревянными рыцарями, слыша, как за одной стеной что-то бормочет пьяный отец, а за другой кряхтит дед. Оба они заглядывали к Бертрану редко, ограничиваясь встречами за приемом пищи. Иногда он слышал, как дед, заявившись в комнату отца ругает его на чем стоит свет, а тот не остается в долгу и проклинает родителя.
Теперь здесь находилась оружейная – на стене висели два меча, кольчуга, к сундуку прислонены два щита с родовым гербом рода Атталь – на червленом поле, разделенном горизонтальной полосой на равные половины, черная голова коня. В сундуке несколько сюрко с гербом. Бертран взял щит, снял со стены меч, обнаружив ржавчину в основании рукояти. Несколько раз взмахнув мечом, он решил отнести его Жану ле Блану, хоть тот и являлся управляющим имения и по статусу давно не занимался чисткой оружия. Старина Жан любил вспоминать времена, когда он служил у отца Бертрана оруженосцем.
Бертран посмотрел на герб. Ни дед, ни отец никогда не говорили, почему именно такой герб у их рода. Живя во взаимной ненависти и собственных переживаниях, они совсем не занимались своим потомком. Бертран подумал, что раз уж он беден, то, может быть, его род имеет славную историю и это вдруг да как-нибудь поможет ему с Катрин? А кто еще знает про такие дела, как не Жан ле Блан?
Глава вторая
Проповедник
Оставив щит, взяв меч, Бертран спустился вниз на второй этаж башни. Здесь находился рыцарский зал, он же служил залом для обедов. Обычно в это время, ближе к вечеру, Жан ле Блан любил пропустить здесь стаканчик вина, закусывая салатом и ведя беседы с женой, которая, раздав указы кухарке, сидела за большим столом и при свете свечей чинила какую-нибудь одежду. Рыцарским духом зал наполнял лишь большой старый гербовый щит на его северной стене.
Жан ле Блан ковырял вилкой в салате, откусывая крупные куски от свежеиспеченной булки, издающей теплый, приятный аромат. Он молча кивнул шевалье и продолжал есть. Бертран присел рядом и положил на колени меч.
– Дядя Жан, я вот меч принес, немного ржавчина завелась. Знаю, ты любишь с оружием повозиться.
– Хорошо, Бертран, сделаю. Откуси-ка эту восхитительную булку – кухарка сегодня превзошла сама себя!
– Не хочу, спасибо. – Бертран налил из кувшина вина в бокал старому оруженосцу.
– Благодарю, мой мальчик! – ответил Жан ле Блан полным ртом.
– До ужина еще далеко, Бертран, – сказала Мадлен, подняв голову от вышивания, – может, немного салата?
– Нет, я не за этим пришел. Я хотел бы узнать, дядя Жан, о нашем гербе, ты долго служил отцу, а до этого и деду моему… Ты ведь знаешь, они ничего мне не говорили, а я вот подумал – конь что-нибудь да значит… И не было ли в моем роду каких-нибудь героев, кем бы я мог гордиться?
– Бертран, твои предки не отличались любовью к разговорам. Иной раз могли и сутками молчать. Ничего они не рассказывали о вашем роде. Деду твоему я служил мало, всего год, да и то это было спустя много лет после того, как он потерял руку. Знаю, что Гвидо д'Атталь был в Каркассоне, когда туда нагрянули крестоносцы, боровшиеся с ересью катаров. Твой дед был молод и состоял в войске виконта Раймунда Роже Транквеля, владельца Каркассона, и оказался вместе с виконтом в осажденном городе. Виконт, как и его сеньор – герцог Тулузский, спокойно относился и к катарам, и к евреям, и к мусульманам, да вообще к любому верованию. Ну, так говорили люди. Короче говоря, фанатизмом не страдали. Вот это и не простили крестоносцы, охотившиеся за еретиками. Деда твоего ранил арбалетный болт…
– Но дед говорил, что руку потерял в бою, его ему отрубили! – воскликнул удивленный Бертран.
– Ну а что ему еще оставалось рассказывать? Потерять руку в схватке – не то чтобы почетно, ничего здесь героического нет, но все же звучит мужественно. А вот когда ты только на стену поднялся, даже еще оружие не достал из ножен, а тебе в руку болт вонзается – это точно не тема для рассказов за стаканчиком вина о былых временах. Я от твоей бабки слышал, она не скрывала ничего. Говорила, что рука у деда твоего так распухла, что лекарь виконта сразу посоветовал ее отрезать, иначе Гвидо д'Атталь не дожил бы до утра.
– А откуда моя бабка это узнала? Дед ей рассказал?
– Она тоже тогда была в Каркассоне. В отличие от Гвидо, она, так сказать, с сочувствием относилась к этим катарам, или альбигойцам, к еретикам, короче, как ты их ни назови. Она тогда влюбилась в твоего деда, когда ухаживала за ним, раненым. После падения Каркассона, по договору между крестоносцами и виконтом, все жители должны были покинуть город. Твоя бабка почти что на себе вынесла твоего деда в одних портках и сорочке. Поправившись, Гвидо дал две клятвы – мстить крестоносцам и жениться на девушке, которая его спасла. Однако с первой клятвой возникла проблема – правой руки-то он лишился по локоть, теперь уж он не мог мечом владеть. Только недавно его виконт в рыцари посвятил, а тут и крест на всей его рыцарской жизни подоспел. Без руки не повоюешь! Тогда он решил вести тайную войну.
– Это как? – удивился Бертран.
– Укрывал еретиков назло крестоносцам.
– Где? Здесь?
– Да. Вот за этим же столом их и кормил.
– Быть не может! – воскликнул неприятно пораженный Бертран.
– Зачем мне тебя обманывать? Они здесь жили подолгу, отравляли своими бесовскими мыслями головы наших крестьян. Многим в замке это не нравилось. А Гвидо радовался, считая укрытие катаров правым делом, хоть взгляды их и не разделял. Твоего отца, который ребенком был, чуть было к себе эти еретики не переметнули. А потом наш молодой король Людовик заключил с герцогом Тулузским договор, и война закончилась. Правда, герцог потерял почти половину владений. Про то, что Гвидо водился с еретиками, доложили чуть ли не самому королю, ну, это я так говорю, сам точно не знаю. Сюда пришли люди короля и разрушили почти весь замок, только донжон оставили. Да и то последний этаж, в знак унижения, велели снести. Гвидо д'Атталь рвал и метал, а поделать ничего не мог. Двести королевских воинов вместе с королевским сенешалем неделю здесь стояли лагерем. Разрушали замок, устраивали облавы на катаров, повсюду рыскали, насиловали наших женщин, вытоптали половину наших виноградников, разорили погреб, все припасы сожрали. Часть крестьян убежали с катарами, часть погибли, сопротивляясь произволу королевских воинов. Дома этих людей сожгли, и все, что было на их участках, сравняли с землей. Потом сенешаль увел своих людей, а Гвидо со злости и смертельной обиды готов был в петлю лезть. Но удержался. Замкнулся в себе. Жил здесь безвылазно, почти ни с кем не общался. Отец за пару лет до этого уехал искать счастья. Меня он с собой не взял, хоть я был его оруженосцем, и даже чуть ли другом с самого детства. Гвидо жил угрюмо, всех вокруг ненавидя, сын перенял его молчаливость, даже некоторую нелюдимость. Поэтому я мало знал, о чем думает Роберт, чего ему хочется. Когда он уехал один, я даже не удивился. Роберт вернулся как раз под конец того года, когда договор с королем подписали и замок наш разрушили. Вернулся он с твоей мамой, женатым, и с тобой, новорожденным. Мелисента оказалась дочерью одного рыцаря, воевавшего на стороне Симона де Монфора – предводителя крестоносцев. Отец Мелисенты после войны приобрел много новых земель – отнятых у тех сеньоров, кто поддерживал еретиков. Сама Мелисента не рассказывала ни о чем таком, но Гвидо как-то сам все узнал, из какого рода твоя мать. Вот тогда он ее возненавидел, а так как Роберт защищал жену, то и сына проклял – мол, мы, Аттали, от этих крестоносцев, под предлогом войны с еретиками разорявшими наш край, так настрадались, а ты привел в разоренный дом женой дочь грабителя-крестоносца.
Бертран сидел, пораженный. Ему и в голову никогда не приходило, что в его семье могут быть такие истории. Однако того, чем можно бы гордиться, он не услышал. Кое-что из рассказанного Жаном ле Бланом он слышал от своих крестьян, но без какой-то взаимосвязи одних воспоминаний с другими, так, чтобы сложилась целостная картина.
– А что мой дед по маме? Ты знаешь что-нибудь, Жан?
– Ну, по слухам. Вскорости после того, как твоя мама тебя родила, деда твоего убили, все имущество перешло к его двум сыновьям, а тех тоже скоро убили. Какая-то усобица произошла в Провансе. Больше ничего не знаю. Может, и есть кто из родни у тебя по матери, но это надо искать.
– Словом, ничего героического в моем роду нет, – со вздохом промолвил Бертран.
– Тебе судить, Бертран. А что такое – героическое? Жив – и хорошо. Думаешь, геройства много у крестоносцев, разоривших нас? Или у тех, кто на соседа нападает за виноградник или луг?
– Тебе не понять, Жан! – выпалил Бертран, поднимаясь. – Рыцарские дела и их суть понятна только рыцарям!
– А ты рыцарь, Бертран? – спокойно усмехнулся Жан, доедая салат и ничуть не обижаясь на заносчивость молодого сеньора.
– Пока нет, но я рожден рыцарем и обязательно стану им!
– Вот это правильно! – похвалила Мадлен. – Вот это серьезный разговор. А то все с Жако, Люком, Жано и Готье целыми днями на реке, да в полях пропадаешь. Чего с крестьянскими ребятами возиться? Дружить с ними хорошо, да только ты забываешь, что ты – Атталь и что тебе уже почти двадцать!
Вошел слуга и сообщил, что какой-то бродячий монах просит ночлега.
– Повадились эти монахи! – буркнул Жан.
– Будь благочестив! – наставительно произнесла Мадлен. – Все же слуге Божьему негоже отказывать в приюте. Кто знает, может, это сам Господь пришел в его образе?!
– Ну, уж любишь ты, Мадлен, сказать пожалостливее! – проворчал Жан.
– Я пойду и спрошу, что за монах, – сказал Бертран.
– Привечаешь ты, шевалье, всяких бродячих монахов, менестрелей, странствующих рыцарей! – заметил Жан. – Угощенья у нас небогаты, самим бы хватило.
– Не ворчи! – усмехнулся Бертран. – Без них мы здесь со скуки подохли бы!
– Да ведь были б нормальные гости, – продолжал ворчать Жан вслед удаляющемуся Бертрану, – а то, что не монах, так норовит стащить что-нибудь или реликвию какую продать! Менестрели очень уж тощи и прожорливы. Понятно, что кормят их не постоянно и не досыта, так уж если дорвутся до еды, так и самим потом не хватает. А эти рыцари, ищущие истину, счастье и удачу? Тоже жрут будь здоров! А денег у них часто только на одну яичницу да на стакан вина хватает. Пользуются гостеприимством, Бертрану голову дурят росказнями.
– Да хоть бы задурили по-настоящему разок! – возразила Мадлен. – А то он наслушается про драконов, фей, турниры, походы, да вместо того, чтобы самому с места сдвинуться да повзрослеть и жизнь свою устраивать, только в эти истории с дружками крестьянскими в полях играет.
– Всему свое время, жена.
– Да что время? Вчера еще помню горшки за ним выносила, титькой кормила, а он уж вон, вымахал! Годки-то, как недели пролетают.
На пороге башни Бертран увидел лысого монаха в темно-коричневой шерстяной рясе, из-под которой виднелись грязные ноги, обутые в сандалии. Ряса была подпоясана веревкой, с висевшими на ней четками. Молодой шевалье сразу узнал в пришедшем францисканца.
– Добрый человек, позволь мне, скромному слуге Божьему, отдохнуть и попить воды в твоем доме? – сказал монах дребезжащим голосом.
– Конечно, отче, заходите. Откуда держите путь?
– Из Орлеана.
– Что привело вас в наши края, святой отец?
– Сначала позволь спросить, молодой человек, чьи это земли и дом? – Голос монаха был строг.
Бертран догадался, что о графстве Тулузском по-прежнему шла молва как о рассаднике ереси, и францисканец опасался, что мог попасть к тайным катарам или сочувствовавшим им людям. Но разве мог монах знать все фамилии, обвиненные в ереси и наказанные за нее? Бертран усомнился в этом и смело произнес:
– Я шевалье Бертран д'Атталь, владелец этой земли.
– Атталь… Атталь… – как бы стараясь вспомнить, бормотал монах, но, видимо, в его кладовой памяти находились данные лишь о тех, кто был еретиком, а не о тех, кто их укрывал, а может быть, он просто делал вид, ибо не знал ничего.