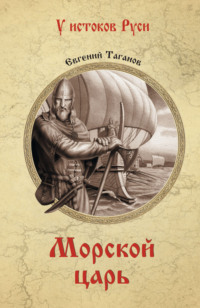Полная версия
Слово о Сафари
Сплошной слой устремлённого к морю потока смыл половину наших посевов, снёс шиферные сарайчики для птицы и поросят, размыл начатый фундамент коровника и гусиную запруду на ручье, повалил треть парников. Сырым было даже то, что с водой не соприкасалось: постели, цемент, продукты. Да и мы сами едва не превратились в земноводных, в одних плавках с удалыми воплями носясь по лагерю и накрывая и закрепляя всё что можно.
Наутро ходили среди полного разора и не знали, с чего приниматься за восстановление. Пашку больше всего удручали даже не уничтоженные посевы, радовавшие до этого дружными всходами, а расточительный смыв в залив плодородного слоя земли – значит, надо возводить подпорные стенки и устраивать ровные террасы. Вадим в свою очередь предложил наложить на Заячью сопку единый бетонный пояс-водовод, по которому вся вода собиралась бы в объёмистое водохранилище, а оттуда крутила бы турбины малой гидроэлектростанции. Сложив свои идеи, они за десять минут набросали план работ для всего будущего населения Сафари на двести лет вперёд.
Гораздо выполнимей оказалась другая их затея – свести все навесы в одно целое. И вернувшийся Аполлоныч застал у нас уже причудливую, сверху похожую на осьминога конструкцию, под которой мы не только свободно перемещались в любое ненастье, но и делали мелкую стационарную работу: строгали доски, сбивали щиты для опалубки, готовили арматуру и так далее. Жёны роптали:
– Да что это за климат такой, бельё по три дня сохнет!
– Давайте тогда и грядки своими навесами укрывайте.
– Представляю, какая здесь в домах плесень по углам. Недаром все уехать стремятся.
– У японцев этих удовольствий ещё побольше будет, – отвечал им Пашка. – И в Сахару оттуда никто не переселяется. Да не зацикливайтесь вы на эту погоду. Разве какой-то дождик может угнетать наш гордый дух? Весь мир мечтает о летних дождях, а у нас этой мечты вон сколько! Предлагаю не сопротивляться, а всем дружно полюбить сырость и плесень, и всё будет в порядке.
Так бодрился он, а сам сердито посматривал на грязноватое небо, мешающее хорошо налаженному ритму строительных работ.
Надо сказать, что улетевший на запад Чухнов увёз от нас не только погоду, но и расположение местного населения. Уж как только мы им не потрафляли! И давали себя лицезреть за доением коров, а наших жён за прополкой грядок в матерчатых перчатках, и у каждого выспрашивали, как и что сажать, где и что можно достать. Словом, вовсю претендовали на роль залётных недотёп, беспомощных и наивных. Но не вышло, никто нас за таковых ни разу не принял.
Как заметил однажды Заремба:
– Стоит только полчаса побыть в вашем лагере, чтобы понять, что вы за люди.
Сказывалась Пашкина трёхлетняя выучка. Ежедневно за ужином мы подробно обсуждали предстоящий день, поэтому каждый совершенно точно знал, чем ему назавтра заниматься, и делал свою работу без всяких вопросов и пауз, а закончив, шёл на помощь соседу без малейших указаний. Поэтому внешне мы походили на молчаливых, запрограммированных зомби, которым нет ни до чего дела, кроме работы. А тут ещё сухой закон и принцип максимальной автономии, благодаря которому мы не ходили ни в гости, ни в клуб, ни в поселковую баню. За что нас было любить? Что хотим быть сами по себе и никому не навязываем своё общество? Да уж тем навязали, что умудрялись жить без водки и мата и работать по двадцать пять часов в сутки.
Прорвалась же накопившаяся враждебность самым неожиданным образом. Раз в два дня я обычно отправлялся на телеге к поселковой котельной за бросовым шлаком. Заодно заглядывал в магазины за продуктами или какой мелочовкой. И вот однажды, когда я благодушно стоял в очереди за гречкой, в магазинчик ввалилась компания подвыпивших мужиков – и нахалом к прилавку. Бабули в очереди зароптали и заоглядывались на меня, единственного тут мужчину: мол, ты чего им позволяешь? Ну я и не позволил, скромное такое сделал замечание – и сразу, как когда-то Аполлоныч от Пашки, получил без предупреждения по физиономии. На кулаках меня вынесли наружу и попытались сбить с ног. Я каким-то образом устоял и даже кое-как стал отмахиваться. Победить пятерых мне не удалось, но моё отступление вовсе не походило на бегство, к удовольствию наблюдавших потасовку пацанов.
Самостийная жизнь подразумевает существование самостийного правосудия. Нет, я вовсе не кипел жаждой мести, синяков суммарно у противника было больше моего, но когда Пашка стал настаивать на ответном рейде, я не очень-то и возражал. Правильно он считал: нельзя было допустить даже саму мысль, что кого-то из нашей зграи можно безнаказанно обидеть. Безумием, правда, было атаковать противника ослабленным строем, но тут уж ничего не поделаешь, время упускать было нельзя.
Я хорошо запомнил того, кто бросился на меня первым, видел, из какого дома он выходит по утрам. И вот под покровом темноты три шевальерские тени вкрадываются к нему во двор. Дождались, когда «клиент» выйдет по нужде на огород, и устроили ему тёмную: одеяло на голову, двое держат, третий сдёргивает брюки и трусы и наносит десять «горячих» солдатским ремнём. После чего мы быстренько смылись, забросив подальше хозяйские штаны, справедливо полагая, что без них человек не станет подымать большой шум.
Такова была наша отместка. Разумеется, она не осталась незамеченной любопытными соседями. И назавтра о ней гудел весь посёлок.
– Ну вы даёте, не знаю, что и сказать! – качал головой Заремба.
– Это наш встречный иск, – объяснил ему Воронец. – Они пошутили, и мы пошутили.
Приехавший к нам на уазике парторг рыбозавода Еремеев был другого мнения:
– Вы что себе здесь позволяете? О ваших бесчинствах уже пошло заявление в РОВД. Поэтому чем скорее вы умотаете отсюда, тем лучше.
На Севрюгина эта угроза произвела сильное впечатление. Пашка его успокаивал:
– Ну подумай сам, как может здоровяк Силантий, – так звали нашего пострадавшего, – при всех говорить, что с него сняли все портки и отшлёпали ремнём по ягодицам?
– А наши огороды и спиленные деревья? – продолжал волноваться доктор.
– Огороды затопчем, если надо, а пеньки грязью замажем.
Вадим принял его совет как руководство к действию и в тот же вечер после ужина пошел с ведром набирать к ручью глинистой земли.
– Ты куда? – остановил его Пашка.
– Пеньки замазывать, сам сказал.
– А брёвна куда прятать будешь?
– Ну так что? – Вадим озадаченно посмотрел на две горки брёвен, заготовленных нами для бани.
– Штраф заплатим, и всё.
Но даже и штрафа платить не пришлось. Как Воронец и предполагал, Еремеев просто нас брал на понт. Однако помимо властей существовало ещё неустойчивое настроение народных нижних чинов. Хоть Заремба и говорил, что к нашей отместке в посёлке по незатейливости нравов отнеслись не как к тяжкому оскорблению, а как к мальчишеской выходке, мы-то видели, что почти через день весь Симеон ходит пьяный и невменяемый. И стали по очереди дежурить у костра каждую ночь, держа под рукой шанцевый инструмент. Дежурили обычно до трёх часов, считая, что у наших недругов просто терпения не хватит дольше выжидать.
Ответного рейда так и не дождались, зато ухитрились начисто прозевать появление у себя первого приживала. В три часа ночи, когда Вадим пошёл спать, Гуськова ещё не было, а в пять утра, когда мы с Пашкой выползли на утреннюю дойку, он спокойно сидел у костра и сушил свои ботинки. Две наши сторожевые дворняги, прибившиеся к нам к тому времени, даже не тявкнули. Не иначе доктор пустил, решили мы и не стали беспокоить человека расспросами. Когда же поняли, что перед нами самозванец, было поздно – из палаток повылезали женщины и дети, и Гуськов им активно помогал по хозяйству. Так он с той минуты при нашей кухне и остался.
Смесь якута и русской, Гуськов являл собой классического бича самой безобидной разновидности. Абсолютный сон разума, сундук доброты, шкатулка умений и напёрсток желаний. Всё, что он вынес из шестидесятилетнего житейского опыта – это то, что, когда холодно, надо пойти в ближайшую котельную и заработать там на буханку хлеба и стакан водки. Сейчас было лето, и поэтому он оказался у нас, изгнанный из Лазурного местным участковым. Маленький, тщедушный, весь какой-то землистый, он излучал абсолютную безвредность и философскую догму, как мало человеку надо. Зато с ним как-то спокойней было оставлять в лагере женщин, да и дети сразу же привязались к «якутскому деду».
Глядя, как они ластятся к нему, мы вдруг открыли для себя, что для их нормального развития нужны рядом люди разных возрастов и нравов, а не одни только уныло работящие родители. Хмурился лишь Пашка – уж очень не подходил Гуськов под его установку принимать в Сафари исключительно людей семейных и с высшим образованием.
– Да брось ты, – успокаивал его Вадим. – Это не кандидат в сафарийцы, а простой наёмный рабочий. Будут тебе и семейные, и образованные.
– Ну вот, наш первый крепостной, – ёрничал Аполлоныч. – А на конюшне пороть мы его будем?
Сам того не желая, он затронул тему, которую Пашке предстояло ещё как следует обосновать.
Прибытие Аполлоныча со Славиками-Эдиками не только сняло заботу о безопасности, но позволило словчить и в чисто финансовых делах. Мы тотчас же включили обоих студентов во все наряды и ведомости и, разбившись на две бригады по три человека, могли одновременно работать и на свинарнике, и у себя, чётко меняясь местами после обеда.
Установили себе неукоснительный 12‑часовой рабочий день с шести утра до восьми вечера с двухчасовым обедом-сиестой и вперёд – на выполнение Пашкиной доктрины стремительного труда. Суть её заключалась в тщательной сверхподготовке фронта работ, когда заранее готовились все необходимые материалы вплоть до последнего шурупа, после чего сам процесс работы превращался в сбор этакого большого детского конструктора, и только. Причём мы старались не заканчивать конкретное дело к концу дня, а хоть что-то оставлять на завтра. Чтобы начинать следующий день с той самой финальной победы, когда у человека вместо усталости наблюдается огромный душевный подъём. Ко двору пришлась и придуманная Пашкой обеденная сиеста, когда короткий сон чудодейственно возвращал все силы, и можно было вгрызаться в продолжение работы с удвоенной энергией. Немудрёные вроде правила, но благодаря им на средней и длинной дистанциях за нами по производительности не могли угнаться никакие стахановцы.
Первым победным результатом такого подхода стала наша баня, в которой кроме сауны разместились детская спальня и кают-компания с телевизором и книжными полками. Два месяца мы старательно в свободные часы тесали для неё брёвна и оконные блоки, а потом в два дня возвели весь сруб под ключ, порадовав сами себя первым стационаром. На фоне палаточной жизни это строение представлялось прямо-таки монументальным сооружением. Одно удовольствие опираться спиной не на податливую материю, а на бревенчатую твёрдость чего стоило! Покупка холодильника, стиральной машины и газовой плиты с баллоном позволили нашему быту быстро приобрести ещё более комфортный вид. Особенно радовались жёны – само наличие дома переводило их в новую даже не социальную, а сословную категорию: из свинарок – в столбовые дворянки. Использовали малейший повод, чтобы забежать в детскую и воткнуть куда-нибудь букетик цветов или поправить стопку выглаженного белья.
– Но всё равно они о своих бурёнках заботятся больше, чем о нас, – утверждала в кают-компании Ирэн.
– Сравнила! – парировал ей Аполлоныч. – Да один навоз от них дороже всех топ-моделей, вместе взятых.
– Ты слышала? – взывала Ирэн к Натали.
– Скотник он и есть скотник, – отвечала та.
– Не скотник, но дояр высшей категории, – поднимал вверх указательный палец барчук. – А вам просто завидно, что мы перехватили у вас эту главную сельскую профессию. Без неё вы пока что прежние дачные барышни. Будете очень просить, так и быть – уступим.
– Не дождётесь! – хором отвечали наши семейные половинки.
Другим большим событием следом за баней явился запуск бетономешалки – царской услуги Сафари со стороны Зарембы, с ней наш второй стационар, коровник на 20 коров, начал расти как на дрожжах.
Якутский дед разнёс по острову весть о своей первой получке, и к нам незамедлительно стали стекаться все ближайшие бичи с предложением подённой работы, чтобы расчёт производился в конце дня. Большей частью это были пьянчуги из Симеона, но захаживали и материковские люмпены, благо до Лазурного было всего полчаса ходу на пароме.
Проблема получилась крайне щекотливой – как-никак самая откровенная эксплуатация. Но, с другой стороны, лето уже перевалило на осень, а коровник обязательно надо успеть закончить, поэтому решили рискнуть – пусть государство само нам это запретит. И действительно, через две недели в Сафари наведался участковый из Лазурного, но лишь с благодарностью – у него отчётность о правопорядке заметно улучшилась.
Так у нас с тех пор эта барщина и привилась. Пять – десять человек толклись в нашем лагере ежедневно. Вадим только ввёл разную оплату: за одинаковую работу одному два рубля в час, а другому лишь рубль – и без всяких объяснений, мол, лучше будет, если бичи дойдут до наших правил своим умом. И народ действительно довольно быстро смекнул, что так мы премируем самых послушных, работящих и некрикливых. Но в восторг от этого почему-то никто не пришёл, и однажды при раздаче денег вспыхнул настоящий мини-бунт: а ну плати поровну! Бичам, однако, не повезло – поблизости от доктора оказались мы с Аполлонычем и втроём с помощью крепких зуботычин навели порядок среди семерых бунтарей в полторы минуты, дав посудачить Симеону уже о наших коллективных бойцовских качествах.
Вадим сделал из инцидента соответствующие выводы и решил, что впредь нам нужно развиваться по законам концлагеря, только не советского, а немецкого.
– А какая разница? – ещё вслух удивился Аполлоныч.
– У немецкого лагеря был минимум охраны, всё остальное делали сами зэки.
Пашка задумчиво помалкивал, видимо, вспоминал, где в его устном собрании изречений было сказано про немецкий концлагерь. Барчук же смехом предложил избрать в качестве коменданта и главного погонялы Адольфа – единственного из подёнщиков, кто не принимал участия в бунте.
Адольфом этого коренастого блондина прозвали за злой взрывной характер. Невысокий, сухощавый, он тем не менее умел заставить сторониться себя самых амбалистых и татуированных напарников. Так, однажды за обеденным столом он вдруг сзади набросился с кулаками на парня раза в полтора здоровее. Оказалось, что за два часа до этого тот отпустил в адрес Адольфа похабную шуточку, только и всего. Ещё через час они схватились драться вновь, и опять атаковал Адольф, теперь за угрозы, сказанные амбалом после первой стычки.
Мы, грешным делом, даже подумали, что у парня что-то не в порядке с головой, но это была лишь его обычная метода. В среде, где всё решает кулак и групповщина, он избрал себе засадную тактику: нападал на противника, когда тот меньше всего мог ожидать, и повторял свои наскоки, как бы ему самому ни доставалось, до полного устрашения.
И вот шутки ради мы официально пригласили такого волка-одиночку вступить в свою закрытую масонскую ложу.
– Не торопись, есть разговор, – остановил его Аполлоныч как-то после ужина, когда Адольф вместе с другими бичами намеревался удалиться в Симеон. – Готов ли ты отказаться от бренных радостей этого мира и вступить в нашу шайку-лейку?
Остальные зграйщики сидели у костра в трёх метрах от них и делали вид, что мало интересуются их беседой.
– В качестве кого? – насторожённо спрашивал Адольф.
– Пока кандидата, конечно.
– И какой у вас кандидатский стаж?
– Лет десять – пятнадцать. Но за особые заслуги можно и быстрее, – в том же шутливом тоне продолжал барчук.
– А какой для меня в этом смысл?
Аполлоныч глянул на Воронца, тот чуть заметно качнул головой, мол, выкручивайся сам.
– Всё, первый экзамен ты сдал на двойку, можешь идти, – напутствовал любознательного кандидата Чухнов.
Три дня после этого Адольф работал как обычно, лишь пристально приглядываясь ко всей нашей зграе. Потом уже сам попросил выслушать его.
– А что ещё я должен говорить, если вы мне ничего толком не объясняете? – напустился он на барчука. – Вступай – и всё! Не пить, не курить, матом не ругаться – это я уже понял. А дальше что? Свобода у меня какая-нибудь будет? Вот я захочу во Владик смотаться, мне что, разрешения у вас спрашивать?
– Не только разрешения, но и денег на командировочные расходы, – ответил вместо Аполлоныча Севрюгин.
– А если я не в командировку, а на свои кровно заработанные захочу?
– Это всё, что ты хотел узнать? – Вадим начал раздражаться.
– Ну построите себе дома, а потом?
– А потом постареем и умрём, – это сказал уже барчук.
– Вы как будто хотите, чтобы я сам до всего допетрил, – почти пожаловался Адольф.
– А мы глупых не берём, – довольно осклабился Чухнов.
– Ну да, только таких, как Гуськов.
– Много говоришь, – строго заметил доктор. – Так да или нет?
– Если да, то что дальше?
– Дальше полный сафарийский взнос: десять тысяч тугриков, диплом о высшем образовании и сто книг в общую библиотеку, – перечислил наш казначей.
– И четвёртое, – напомнил молчавший до этого Воронец.
– Да, четвёртое. Свидетельство о браке с предъявлением самой мадам, – быстрее других среагировал барчук.
Никто не сомневался, что таких условий приёма Адольфу не пройти ни по каким параметрам. Но как же мы все сели в лужу! Надо высшее образование? – Пожалуйста, вот вам зачётка студента-заочника Дальневосточного политеха. Денежный взнос в десять тысяч? – Да ради бога! Отлучка на сутки во Владик – и вот вам вся сумма. Что, семейственность? – Ещё одна поездка на материк – и в Сафари на одну симпатичную, образованную, да ещё с десятилетней дочкой женщину больше. Правда, без свидетельства о браке, но сельсовет рядом, счас сходим, или лучше тогда, когда у вас заведутся деньги на свадебные подарки. Каких именно сто книг, список, пожалуйста? – Неделю срока – и всё будет в лучшем виде. Что там последнее, что вы называете самым главным? Идея на благо Сафари, которую я сам бы и осуществил? – Дайте пораскинуть мозгами или тем, что там у меня вместо них.
Так в одночасье он стал более полноправным членом Сафари, чем мы сами, – ни у кого из нас столь полного вступительного комплекта ещё не было. Особенно смущали его десять тысяч, даже на Дальнем Востоке невозможно было просто из воздуха достать такие деньги. На вопрос, где взял, Адольф резонно ответил:
– Пускай у вас будут свои секреты, а у меня свои.
На закрытом зграйском совете Вадим обронил:
– Похоже на какой-то зэковский общак.
– Один олигофрен, другой матёрый уголовник – хорошо начинаем нести свет в народные массы, – подытожил без всякого осуждения Пашка.
– Надо всё-таки навести справки, – неосмотрительно вставил я.
– Вот ты, Кузьмин, и будешь заведовать нашим местным гестапо, – подхватил барчук. – Всегда отмалчиваешься – значит, умеешь хранить тайны, умеешь хранить тайны – значит, тебе их и знать.
Пока я подыскивал подходящий отлуп, Пашка и Вадим внимательно посмотрели на меня, и я понял, что полное их благословение на эти функции мной получено.
– Ты это кончай со своими крепостными и гестапо, – по-серьёзному обратился Пашка к Чухнову. – Не все способны понимать твой кладбищенский юмор. Учтите, что очень скоро у нас появятся подсадные утки КГБ, поэтому давайте обращаться со словами предельно осмотрительно.
– Кузя их выявит, и мы их тут же расстреляем, – веселье Аполлоныча было не остановить.
Но Воронец так глянул на него, что он тут же сбавил тон:
– Всё понял. Никаких крепостных, гестапо и расстрелов. Клянусь ползунками своей дочери.
Как Адольф ни скрывал и ни дичился, некоторые факты про него выяснить всё же удалось. Его главным душевным факелом была нетерпимость и злоба ко всякого рода пропискам, пропускам, анкетам, удостоверениям. Будете, собаки, меня по бумажкам оценивать, так я вам оценю! И проходил под чужой фамилией в самолёт и обком партии, по липовым документам отдыхал в закрытом санатории и в гостиничном люксе, поступал в вузы и даже в загранплавании побывал. Дважды был судим за подделку документов, но отнюдь не исправился, потихоньку продолжая свой преступный промысел и у нас (вот откуда взялся его сумасшедший взнос). Предметом его чёрной зависти был прославленный «Литературкой» бич, что два года на халяву колесил по стране в отдельном служебном вагоне. Нечто подобное, только в своём бумажно-поддельном жанре, хотел для себя и Адольф.
– Ну что ж, концлагерь так концлагерь, – легко согласился он с предложенной ему должностью коменданта, выстругал подходящую дубинку и стал неутомимо прохаживаться с нею по лагерю, подгоняя своих вчерашних товарищей: «Арбайтен! Арбайтен! Арбайтен!» И так выразительно похлопывал себе дубинкой по ладони, что даже те, кто не знал значения этого немецкого слова, сразу понимали, что от них требуется. Разумеется, сам отныне наравне с ними пахать на презренных бетонных работах он тоже уже не мог. Нашёл себе более подходящие занятия. Вместо двух наших шелудивых дворняжек стал создавать настоящее собачье воинство, что вскоре забегало по натянутому по всему периметру лагеря стальному тросу. Заодно изготовил боевой арбалет и отправился браконьерничать с ним на симеонских оленей. Мы об этом узнали, только когда Адольф притащил на кухню два рюкзака свежего мяса.
– Пускай это будут мои проблемы, – сказал он. – А вы делайте вид, что ничего не знаете. Вы видели арбалет в моих руках? Нет. Вот и другие не увидят.
Никто ещё столь откровенно не навязывал нам свою волю, но удивительное дело – наше самолюбие не роптало. Было в Адольфе какое-то отрицательное обаяние, что заставляло многое ему позволять. Так он с тех пор и заделался нашим главным поставщиком оленины, а также свежей рыбы – сами мы к рыбалке были совершенно равнодушны.
С началом июля, когда море прогрелось и открылся купальный сезон, туристы на остров, что называется, пошли косяком. Многих особенно привлекал наш северный полуостров, где было немало закрытых бухточек, идеальных для семейного и компанейского отдыха. В каждой имелся ручей с родниковой водой, песчаный или галечный пляж, сколько угодно сухого хвороста в лесу и изощрённая пейзажистика вокруг. И потянулся к небу дымок туристских костров, а окрест зазвучала какофония транзисторных и магнитофонных звуков.
Наш лагерь, хозяйство, баня, столовая под навесом притягивали туристов, словно мёдом намазанные. Ну ладно бы полюбопытствовали и шли своей дорогой. Так нет же, каждый второй норовил завести с нами более тесное знакомство. Днём мы были в этом смысле неприступны, но вечером, после восьми, когда уходили в посёлок подёнщики, наступало расслабление. Несколько чужаков непременно оказывались за нашим столом или в кают-компании у видика и сидели часто до упора. Тащили выпивку, редкие консервы, красную икру и искренне обижались, когда мы отказывались «принять на грудь по десять капель» или не желали идти к их палаткам с ответным визитом. Все почему-то путали простое гостеприимство с пьяным панибратством, а для нас здесь существовала чёткая разница.
Целый месяц мы мучились, но появился Адольф, и всё преобразилось. Ровно в одиннадцать он забирал со стола самовар и выключал телевизор с видиком на самом интересном месте. Но порой даже эти меры не могли поднять с места засидевшихся посетителей. Однажды дело чуть не дошло до драки. Некий усатый морячок рвался из рук товарищей к нашим физиономиям:
– Я бесплатно ужинаю только у друзей, а раз вы не хотите быть моими корешами, я по-другому расплачусь с вами.
Он имел в виду мордобой, но Адольф перевёл на другое.
– Хорошо, расплачивайся. – И он поставил на стол перед морячком пустую трёхлитровую банку.
Все – и свои и чужие – опешили.
– Отлично. Сколько? – победно осклабился усатый.
– А сколько считаешь нужным.
Морячок сделал широкий ресторанный жест, и в банку опустилась двадцатипятирублёвка. Никто из наших не вмешивался. Адольф тоже был само хладнокровие, твёрдой рукой налил себе кружку чаю и предоставил гостям самим выпутываться из щекотливой ситуации. Его выдержка подействовала – компания морячков удалилась в некотором сомнении относительно своей моральной победы.
Страшная весть мгновенно облетела посёлок и все туристские костры: оказывается, эти «минские сектанты» берут деньги, и бешеные, за своё грошовое угощение и видик. Мы и не собирались оправдываться, а по совету Адольфа даже объявили прейскурант: за ужин, видик и одиннадцатичасовой чай по 5 рублей с носа.
Наше ожидание, что теперь уж точно к нам никто ни ногой, обернулось прямо противоположным: поток вечерних посетителей в нашу лесную ресторацию стал более густым и устойчивым. Ведь отныне не надо было ломать голову, что захватить с собой в виде гостинца, а за несчастную пятёрку всякий мог чувствовать себя вполне свободно: ещё бы, теперь они всё это оплачивают! Вслед за туристами к нам потянулись и коренные симеонцы: со злачными местами на острове было туговато, да и кормили наши женщины – не сравнить с поселковой столовой. Но ресторан мы были особый: никакой выпивки, даже принесённой с собой, никакого крика и выпендрёжа, иначе рядом непременно возникнет фигура Адольфа с самым свирепым из своих псов на цепи и тихо, проникновенно так произнесёт на ухо: