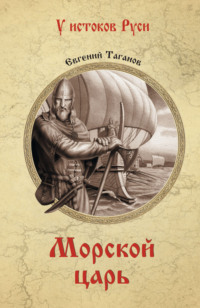Полная версия
Слово о Сафари
В общем, уровень нашего великосветского раута всё повышался и повышался, но в самый критический момент, когда нас должно было затошнить ото всего этого, Жаннет, извинившись, понесла еду поросенку и нутриям, мы увязались следом посмотреть – и демократический баланс тут же восстановился.
Такими уж они были, эти Воронцовы: в вечернем платье и при галстуке – а рядом хлев, курятник, выгребная яма; грамотный разбор театрального спектакля – и тут же рецептура домашнего кваса, мочёных яблок, копчёных кур; обучение детей языкам, рисованию, музыке – и следом сколачивание рам для парников и доение козы.
Словом, это были семья и дом, куда хотелось приходить и перенимать навыки домашнего очага. И было даже странно, почему Пашка не может удовлетвориться тем, что имеет, а желает нянчиться с нами, самыми рядовыми обывателями.
– Видимо, срок подошёл ему самому, – определил после смотрин Севрюгин. – Пашкина автономность заполнила собой все десять приусадебных соток и стала в них тихо задыхаться.
– Ей понадобилось большее жизненное пространство, не в смысле географии, а в смысле наших душ, – подхватил его суждение Аполлоныч. – Ему теперь требуется вселиться в чужие тела, руки, черепную коробку. И мы, наверно, не самые худшие подопытные кролики, вот он и остановился на нас.
– А что делают с кроликами после опытов? На мясо или на мех? – ёрничал я.
– Нас с тобой только в анатомический театр, – отвечал мне Аполлоныч. – Вадим разрежет и посмотрит, что в нашей серёдке изменилось.
Но такие шуточки вместо того, чтобы как-то отвращать нас от нашего экспериментатора, лишь сильней к нему привлекали. Просто в окружающей всеобщей пассивной жизни было очень удивительно встретить человека, которому по-настоящему надо что-то своё.
Коньком Воронца была целесообразность всего и всех. Что и сколько нужно человеку читать, чтобы и не много, и не мало, сколько тратить на себя в день воды и электричества, сколько производить на своём огороде, чтобы было оптимальное сочетание с твоей главной службой. Такими вопросами изводил он себя и тех, кто хотел его слушать. Мы хотели, и, ощущая нашу отзывчивость, Пашка потихоньку и сам проникался к нам доверием.
Переломным стал следующий, 1982 год – после покупки фазенды для меня. На одних ежедневных переездах туда-сюда на аполлоновском пикапе мы стали терять бездну времени, стараясь успеть и на службе, и на шабашке, и на нашей уже объединенной огородной системе, и тогда было принято радикальное решение уволиться с основной работы. Пять месяцев шабашки вдвое перекрывали нашу годовую зарплату – так чего церемониться? Беспокоились только, как к этому отнесутся жёны. Но наши боевые подруги уже вовсю мечтали о второй легковушке для своих дамских разъездов, поэтому общее мужнее увольнение прошло при их полном благословении.
По-серьёзному возражали только родители. Для них, помнящих ещё сталинские порядки, любые большие зарплаты выглядели явным жульничеством, за которым рано или поздно должно последовать тюремное наказание. Строгая тётя Зина, мать Севрюгина, не поленилась даже съездить в шевальерский замок Воронцовых, чтобы «разобраться» с нашим бугром лично:
– Мой сын не для того семь лет в мединституте отучился, чтобы коровники теперь строить! Ему уже не двадцать лет, чтобы такими глупостями заниматься.
– Вообще-то мы планировали вчетвером податься в Магаданскую область в вольные золотодобытчики, – отвечал ей Пашка. – Я с трудом уговорил их остаться в Белоруссии. Вы хотите, чтобы мы подались на Колыму? Мы подадимся.
Как было тёте Зине не благодарить его за то, что «мы» загубим жизнь её сына не полностью, а только наполовину.
Два последующих года нашу авантюру полностью оправдали. Первый год, правда, вышел относительно безденежным – все заработки уходили на то, чтобы привести в единый севооборот четыре земельных участка, включая уже и дачу родителей Чухнова, которых совместными усилиями нам удалось почти устранить от дачных дел. Зато на второй год, когда дарами земли мы смогли помимо самих себя обеспечить на Пашкином подворье две козы, четырёх поросят, по двадцать кур и нутрий, то сразу почувствовали, как сумма, необходимая на второе авто, стала быстро накапливаться в нашем общем котле, куда мы складывали половину своего заработка на шабашке. Вдобавок Воронец сделал сильный тактический ход, назначив казначеем Севрюгина. Получив в руки всю исполнительную денежную власть, Вадим уже не так вмешивался в законодательную власть нашего зодчего.
Будучи старше нас всего на каких-то три года, Пашка, не успели мы оглянуться, стал нашим непререкаемым авторитетом не только в работе и в ведении натурального хозяйства, но и в повседневной жизни. В личном общении он вовсе не походил на восторженного краснобая, готового часами ублажать новую для себя приятную компанию. Напротив, часто отмалчивался, вежливо пережидая наше фонтанирующее пустословие. Зажечь его могли лишь слова-действия, предлагающие сделать хоть малейшее улучшение окружающей среды обитания. Тут он сразу их подхватывал и превращался в термоядерную личность, которой немыслимо было противоречить, а хотелось только весело подчиняться. Поэтому в любые затянувшиеся разговорные паузы мы сами вынуждены были, чтобы не оказаться людьми, с которыми скучно, выходить на его любимые темы и развивать их всё дальше и дальше.
Так, Аполлоныч однажды неосмотрительно пошутил, что можно, кроме материальных ценностей, объединять ещё и духовные, и его Натали немедленно получила задание переписать в единый каталог четыре наши домашние библиотеки, Жаннет поручили обеспечить все наши семейные встречи отборной музыкальной программой, а самому Чухнову выделили энную сумму на покупку видеокассет для общего, дорогого и редкого в то время видика.
В другой раз Вадим посетовал, что жена слишком много времени и денег тратит на парикмахерские, и в нашем дружном октаэдре возник собственный цирюльник – чухновская Натали. Сначала ей было позволено измываться лишь над мужскими причёсками, но вскоре дошёл черёд и до женских. Потом точно так же и меня превратили в штатного электрика и антеннщика. От роли домашнего сантехника Вадим и Аполлоныч, правда, сумели отвертеться (пообещав взамен профессионально освоить экономическую и киноведческую науки), и Пашка в назидание им взял все унитазы на себя. Ирэн смела пыль с бабушкиной швейной машины и под руководством Жанны вовсю осваивала швейное ремесло, а спустя какое-то время они вдвоём уже примеривались к пошиву нутриевых курток и шапок. Не осталась в стороне и моя Валентина. Ей на день рождения подарили вязальную машину, и с тех пор о существовании магазинных свитеров и жилетов мы быстро стали забывать.
Разумеется, одной шабашки, совместного хозяйства и времяпрепровождения для подлинного сближения взрослых семейных людей было всё же маловато, требовалось что-то ещё, чтобы мы все почувствовали себя одной группы крови. Таким недостающим звеном, как я сейчас понимаю, стал для нас организованный Жаннет литературный салон. Получив от Натали полный каталог наших библиотек, она распределила, кому какие выписывать литературные журналы, и составила список недостающих книг для нашего полного филологического образования, поручив казначею-доктору самому все их закупить у букинистов на чёрном рынке.
Сон на чердаке под звёздным небом между тем уже внушал нашему предводителю, что второй легковушкой не спасёшься, что мелкотравчатое копание огородных грядок – тупиковый путь, что надо действовать и шире, и глубже. Ехать в лесную глушь, искать там покинутую деревню и жить в ней стационарно. Питаться чистыми продуктами, читать книги, смотреть по видику отборные фильмы и опытным путём создавать интеллектуально-трудовую зграю. В белорусском языке слово «зграя» означает не просто стаю, а волчью стаю, на что немедленно среагировал Севрюгин:
– И нас, как волков, сразу начнут отстреливать.
– Ну, если подставляться не будем, то и не отстрелят, – спокойно отвечал Воронец.
– А как ты себе это представляешь: создать новое поселение без разрешений райкомов и сельсоветов?
– Какая проблема: объявим ударную комсомольскую стройку – и вперёд, – саркастически вставился Чухнов. – Одна закавыка – мы уже не комсомольцы.
Пашка молчал, давая возможность новым умственным семенам как следует прорасти в нас. Человек не запрограммирован природой жить в миллионных городах, полагал он. Оптимальная его группа – это родовая община, которая тысячелетиями искала в других родах только невест и собутыльников на общих праздниках и изредка защиты против вражеского вторжения. Сейчас в пользу мегаполисов, по сути, есть лишь три фактора: Карьера, Динамика жизни и Развлечения. Но почему нельзя достичь этого в небольшой группе, избежав при этом сволочного стадного жлобства? Разве собственная жизнь не пример для вас возможного человеческого единения? То ты был один, один, а женился – и стал вдвоём, вдвоём. И организм перестроился, ничего с ним не случилось. А почему этому организму не превратиться в восьмиголовую или тридцатиголовую гидру? Что мешает? Только психология. Поэтому поступай всегда вопреки жлобам и скептикам – и всё будет в порядке. Жлоб для другого палец о палец не ударит, а ты о комфорте соседа только и думай. Скептик говорит: «Невозможно», а ты: «А я попробую».
Мы не знали, что и думать. На словах это выглядело если и не убедительно, то весьма привлекательно. Особенно когда Пашка развивал свою теорию «просвещённого колхоза» дальше. Мол, деревня в лесной глуши лишь самое начало. Почему в Америку бегут не задумываясь? Потому что эмигрантам первое время подстилают мягкую соломку. И как только у нас появится дополнительное благоустроенное жилье, желающих в нём поселиться выстроится целая очередь, так что нам ещё придётся и выбирать. А мы и будем выбирать, потому что обязательность заботы о ближнем предполагает обязательную симпатию, и если новичок будет хоть чем-то не нравиться любому из нас, то он не будет принят в нашу зграю ни по каким другим доводам. А с подходящими симпатягами совсем нетрудно будет начать постепенное вытеснение из деревни, а потом и из всего колхоза аборигенов. И наконец мы сами превратимся в просвещённый колхоз, который в силу своих дипломов и внутренней сплочённости сможет противостоять любому давлению власть имущих и заживёт этаким независимым греческим полисом, который, как известно, представлял собой вершину развития человеческой цивилизации.
Успехи на шабашке и на огородных грядках вскружили нам головы, и мы уже не видели для себя ничего невозможного. Неужели будем хозяйничать хуже пьянчуг-механизаторов и грязнуль-доярок? Или заскучаем по топоту пьяных соседей над головой? Это мы-то, которые уже чувствовали себя хорошо и самодостаточно только в кругу своего октаэдра, так что любой новый посетитель воспринимался нами как чужеродное тело, и если по каким-то причинам два-три дня не собирались вместе, то испытывали заметный дискомфорт. И что существенное, в принципе, может измениться, если мы из одних стен переместимся в другие, где ничто не будет мешать нашим сборищам, вкалыванию и взаимному самообразованию?
Все пять тёплых месяцев 1983 года наша бригада кочевала из колхоза в колхоз, довольствуясь мелкими шабашками и не столько работая, сколько примеряя на себя нужную лесную деревню. И тут нас ждало огромное разочарование. И трудно было даже понять, отчего? То ли от почерневших изб с крошечными оконцами, то ли от непородистого и зачуханного деревенского народца, то ли от печати уныния столетий, лежащей на всём и всех. Слиться хоть ненадолго с этими реальными людьми и халупами в одно целое казалось немыслимым и гибельным. Мы словно воочию видели, как сами рядом с ними опускаемся, грубеем, забываем лишние знания и погружаемся в вековечную дрему или беспробудное пьянство.
Понял это и Пашка, но тут же сумел найти причину. Мол, нам здесь не хватает и не будет хватать «вросших ног», без которых мы обречены себя чувствовать неуверенно. Само это понятие явилось Воронцу во сне, на очередном нашем шабашническом пристанище, и я был первый, кому он рассказал о нём. Разбуди он Вадима или Аполлоныча, те бы просто послали его и завернулись на другой бок. Я же покорно накинул на себя фуфайку, вылез из трухлявой хаты наружу и стал слушать захлёбывающего обилием мыслей Пашку в унисон с первыми петухами.
Тут было всё: и освоение русскими землепроходцами огромных бесхозных территорий, и тысячелетие кровавых, но победоносных войн, и феномен казачества. Словом, путь к родовой общине друзей-побратимов лежал через казачью станицу, никак не иначе. И надо не вселяться в чужие покинутые брёвна, способные сгореть от одной завистливой спички, а самим строить острог, замок, детинец, цитадель и, когда ноги в неё врастут, до последнего защищать в ней свою общинную самостийность.
Наутро тема была продолжена за общим столом. И это был тот редкий случай, когда мы сами предложили улучшение Пашкиной идеи. Мол, острог не острог, но нам действительно нужно достаточно гиблое место, чтобы никому из местных не было нужды претендовать на него: скажем, край болота или излучина реки. А со временем, когда мы там всё окультурим и наберёмся сил, пусть только попробуют согнать, будут иметь бледный вид.
Когда мы всё так Воронцу растолковали и стали перебирать, где в Белоруссии знаем такие места, он возьми и сказани: «А я знаю, куда надо». Нам с Севрюгой и барчуком даже переглядываться не пришлось, чтобы возликовать про себя: вот ты и попался, Пашка Воронцов, тут всему твоему верховодству и конец пришёл. Потому что в тайниках души Пашку мы недолюбливали, как могут недолюбливать заурядности по-настоящему яркую личность.
Да и трудно было удержаться от злорадной усмешки, так как он предложил отправиться совсем рядом – за десять тысяч вёрст – и поселиться в Приморье на одном из прибрежных островов, где когда-то нёс лейтенантскую службу его отец. И ведь имел дело не с пятнадцатилетними тимуровцами, а с тридцатилетними мужиками, глупость и наивняк которых вовсе не так беспредельны, как ему кажется. Наверно, Пашка что-то такое почуял в нашем настроении (интуиция у него была ещё та!), потому что уже через день предложил поехать с кем-нибудь из нас на разведку. Но никто не согласился. Подразумевалось, что мы полностью доверяем вкусу и выбору своего генерал-аншефа.
В общем, доработали до первого снега, поделили бабки и стали свозить в шевальерский замок со своих фазенд заготовленные зимние корма, а Воронец подался в Приморье договариваться там о новой шабашке. Дорогу и гостиницу ему мы оплатили, а вот на суточные пожадничали. Поэтому через две недели он вернулся крайне исхудалым, но сияющим. В наказание нам в подробности входить не стал, сказал: сами всё увидите.
И по весне 1984 года, отгуляв майские праздники, двинулись мы всем своим зграйским табором в самолётный неблизкий путь, получивший с лёгкой руки Аполлоныча название Сафари как символ полуохотничьего путешествия в тигрино-медвежью тайгу. Женщины даже с работы не увольнялись, взяли отпуска, настолько не сомневались, что это для их мужей очередная шабашка и не более того. А пятеро детей от 4 до 11 лет специально были ими прихвачены с собой как самая надёжная страховка от возможных мужских глупостей. Пашка всю дорогу заметно нервничал, боялся какой-нибудь случайности, способной помешать нам добраться до земли обетованной. Но никто из детей не потерялся, и ни одна нога по пути сломана не была, и во Владивосток на трёх перекладных самолётах мы прибыли точно по расписанию. Там тоже ни один пограничник не помешал нам сесть на «Метеор», и через час мы были уже в Лазурном, посёлке городского типа, состоящем из сотни пятиэтажек, тупиковой железнодорожной станции, крошечного морского причала с одиноким портальным краном и гниющих вокруг остовов брошенных судов.
С причала уже открывался великолепный вид на цель нашего вояжа – Симеонов остров: покрытые лесом сопки и скалы в трёх километрах от материка, и прямо по курсу его визитная карточка – аккуратная, на полкилометра, пирамида Заячьей сопки, рядом с которой едва различался одноимённый с островом посёлок.
– Там, наверно, и электричества нет, – высказался доктор.
– Похоже на ШИЗО для всех дальневосточных зэков, – предположил Чухнов.
– И что, сюда с детьми?! – не на шутку перепугалась моя Валентина.
– Да не слушай ты их. Они тебе сейчас и про людоедов на острове наплетут, – успокоила её Ирэн.
– А нас точно здесь ждут? – с подозрением посмотрела на мужа Жаннет.
– Ну, если не ждут, переночуем где-нибудь под кустиком и домой полетим, – непривычно резко отвечал ей Пашка.
На него в тот момент тяжело было смотреть. Обросший трёхдневной щетиной, с ввалившимися щеками и болезненно мерцающими глазами, он был похож на барона Мюнхгаузена, готового вытащить себя вместе с конём за волосы из топкого болота. Какой-то вихрастый парень спросил у него закурить и тут же отскочил как ошпаренный, натолкнувшись на остекленелый взгляд нашего кормчего.
Полтора часа торчать на Лазурненском причале оказалось совсем не скучно: мы разглядывали едущую на остров публику, та глазела на нас. К нашему большому облегчению, деревенского в островитянах было мало, даже бабули одевались как сельские учителя, в нарядах же среднего поколения и молодёжи вообще шёл какой-то непонятный разнобой. Лишь когда на причал подкатили двое подростков на крошечных японских мопедах, мы поняли, в чём тут дело: всё шмотьё тоже было из Страны восходящего солнца.
На остров на пароме прибыли уже в глубокие сумерки. Торопливо, насколько позволяли трёхпудовые рюкзаки, прошли главной улицей посёлка и углубились в лес. Воронец знал, куда вел, и через полчаса дал команду ставить палатки. При свете фонариков кое-как их натянули, напоили измученную детвору чаем из термосов и дружно завалились спать.
Наутро всех разбудил топот десятков копыт.
– Это олени, – крикнул из своей палатки Воронец. Ну, олени так олени. И мы стали выползать на свет божий и смотреть, куда это нас угораздило.
Наш лагерь находился у ручья с прозрачной и, как вскоре выяснилось, вполне питьевой водой. Рядом проходила дорога, по которой мы пришли. За ней начинался подъём на главную островную доминанту – Заячью сопку. Низкорослый дубовый лес вокруг имел странный вид: в нём совершенно не было подлеска, зато под ногами сколько угодно острых камней. Пашка объяснил отсутствие кустов избытком оленей: всё, сволочи, сжирают, происхождение камней являлось загадкой и для него. Наскоро позавтракав и оставив на женщин детей, мы пошли осматриваться более основательно. Пашка давал пояснения как заправский гид.
Остров, несмотря на кажущуюся обозримость, простирался на 10 километров с севера на юг и на 6 вёрст с востока на запад. Со всех сторон он был окружён высоким скалистым обрывом и узкой полосой пляжа, уходящей в каменистое мелководье. Лишь на севере по направлению к Большой земле находилась обширная подковообразная бухта, удобная для причала судов, вдоль неё тянулся посёлок рыбаков и звероводов. Благодаря бухте остров по форме напоминал палитру художника с несколько вытянутым на северо-востоке по направлению к материку полуостровом, на котором расположился наш бивуак. На две с половиной тысячи жителей здесь приходилось 50 тысяч клеточных норок и 4 тысячи полувольных пятнистых оленей для производства пантокрина.
Наши палатки располагались на западном склоне Заячьей сопки, на относительно ровной полосе вдоль берега моря. Ручей, который возле нас весело журчал на дне двухметровой канавы, через триста метров впадал в бухту по дну уже настоящего каньона. Проследив его впадение, мы очутились на пятнадцатиметровом обрыве, откуда был виден и островной посёлок с рыбачьими судёнышками, и дальние пятиэтажки Лазурного. Что и говорить, место для обоснования было самое стратегическое. Вадиму немного не понравилась грунтовая дорога, проходящая рядом с лагерем, но она оказалась в полном смысле дорогой в никуда, просто обрываясь через полтора километра на северной оконечности острова в заброшенном мраморном карьере. Как будто кто специально придумал её для соединения нас с остальным миром.
Если Пашка и хотел найти место, где бы мы ощущали пустоту за своей спиной и могли с полным правом сказать: «Мы здесь – начало всему», то более удачной географической и психологической точки нельзя было и придумать.
Первая экскурсия в посёлок произвела вместе и тягостное, и отрадное впечатление. Чахлые сады, некрашеные штакетники и неухоженные усадьбы, горы шлака, мусора и навоза, свиньи и плюгавые собачонки прямо на улицах. Понравились же признаки цивилизации: десяток двухэтажных многоквартирных домов, машинный двор с техникой на любой вкус, клуб, хлебопекарня, маленькие, наполненные самым необходимым магазинчики.
Естественно, что Пашка никого не предупредил о наших семействах: «Зачем заранее получать отрицательный ответ?» И для местного начальства это явилось большим сюрпризом. Шабашников в палатках и с семьями – такого тут ещё не видели. Просьба же выдать нам лошадь с телегой и плугом окончательно привела их в замешательство.
Неудачным было и первое знакомство с рядовыми симеонцами. Два рыбака, отец и сын, завернули к нам на мотоцикле под вечер на огонёк с бутылкой водки и кулём пойманной рыбы. Рыбу мы приняли, а от водки отказались. Рыбаки распили её сами – здесь мы не вольны были им помешать. Затем был долгий застольный разговор, под конец которого гости расслабились и стали подпускать матерка в свою речь. Наши домочадцы уже отправились на покой, и Пашка был на этом острове, наверно, первым мужиком, который запретил в своём присутствии сквернословить другим мужикам, без спасительной ссылки на нежные уши женщин и детей, просто потому, что ему самому противно это слушать. Рыбаки были порядком ошарашены, не знали, сердиться им или смеяться. Попереглядывались между собой и заторопились уезжать. Так с первого же дня была установлена чёткая дистанция между нами и местным населением.
Мы не узнавали своего бугра, человека, в общем-то, деликатного и терпимого. За какие-то сутки перелёта образ предстоящей благостной коммуны сменился у него образом светского монастыря с предельно жёстким уставом. Мол, нам самим ещё тянуться и тянуться к верхним ступеням совершенства, так зачем же подыгрывать черни и спрыгивать вниз на ступени, которые мы уже преодолели? А насчёт того, что́ подумают другие, давайте придерживаться нашего старого правила: никогда не бездельничать больше пяти минут кряду. Проверено было в Европе, лучшим противоядием против дурной репутации будет и здесь, в Азии.
Уже на следующий день, ещё как следует не оклемавшись от смены семи часовых поясов, мы вышли на объект: дряхлый свинарник, который должны были обновить. Параллельно занимались обустройством своей бивуачной жизни: расчищали поляну для огорода, устраивали летнюю кухню, туалет, душ, из спиленных дубов готовили брёвна для бани.
Каждый день приносил всё новые сведения о самом острове. Обнаруживали то каскад мелких живописных водопадов и глубокую карстовую пещеру, то изумительные, уединённые скалистые бухточки и короткую речушку Красную с нерестами горбуши, то настоящие альпийские луга и крупное озеро Гусиное с плантацией редчайшего лотоса. Другими словами, великолепный природный музей, до которого никому не было никакого дела.
Жизнь посёлка тоже отличалась своеобразием. Два его хозяина: рыбозавод с дюжиной судёнышек прибрежного лова и зверосовхоз, хозяйственно дополняя друг друга, вовсе не сливались между собой в одно целое. В первом царила вольница сезонной наёмной силы, во втором – стремление поживиться крадеными норковыми шкурками и дармовой олениной. Особый колорит вносила женская общага с вербованными раздельщицами рыбы. К счастью, обе поселковые популяции предпочитали выяснять по пьянке отношения только между собой, игнорируя всякую третью публику, из-за чего остров служил раем для многочисленных палаточных туристов.
Мы вошли в эту жизнь без всякого напряжения. Поздняя приморская весна постепенно набирала силу, становилось теплее, зелёный иней распустившихся почек превращался в зрелую листву, мелкая лесная живность всё смелее посещала наш лагерь, радуя своим «гостеванием» не только детей, но и отцов семейств.
Ну а как с издевающимся смехом над Пашкиной идеей нас здесь поселить? Мы держали его про запас целых две недели: надо было осмотреться, да и втянуться в шабашку, от которой мы не собирались отказываться. Но потом настал момент, когда четверть гектара огорода была обработана и засеяна, и если на сезон, то в самый раз, а если с продолжением, то надо сажать раза в четыре больше. Пашка молчал, мы тоже не рвались к самому главному своему разговору. А в один прекрасный вечер, когда мы, размягчённые едой и усталостью, совсем потеряли бдительность, Воронец просто взял лист бумаги и нарисовал нам эскиз Террасного полиса на 100 семей – зря, что ли, имел диплом архитектора и знал, на чём обскакать простаков.
Полис состоял из шлакобетонных домов-террас, ступеньками поднимающихся на Заячью сопку. Всё в них было просто, нарядно и целесообразно. На нижних этажах мастерские, клуб и школа, а над ними – просторные квартиры с закрытыми садами-двориками, куда не мог заглянуть никто посторонний. Чем не идеальное слияние квартирного с коттеджным? А хозяйственные дворы с мини-полями отдельно у подножия сопки.