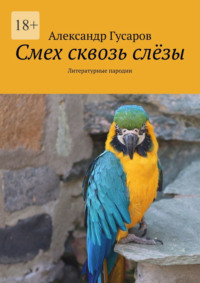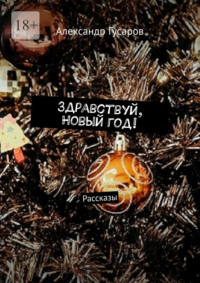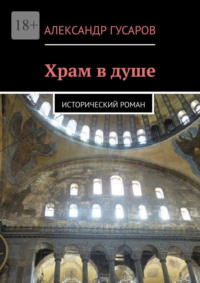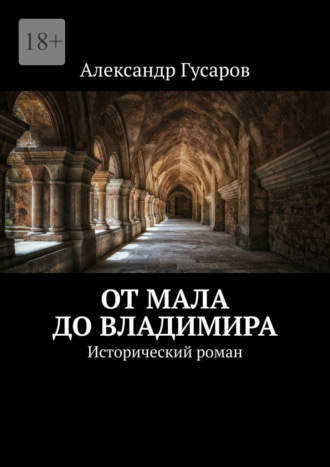
Полная версия
От Мала до Владимира. Исторический роман

От Мала до Владимира
Исторический роман
Александр Гусаров
Фотограф Peter H с сайта Pixabay
© Александр Гусаров, 2025
© Peter H с сайта Pixabay, фотографии, 2025
ISBN 978-5-0056-9224-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I
Подступала осень. Листва ещё не осыпалась с деревьев, разросшихся вокруг княжеского терема, но уже пленяла взоры оттенками жёлтого и красного, готовясь в скором времени оказаться под снежными россыпями. Стояла осенняя тишина бабьего лета. Пора расставаний и пора подведения итогов. Когда просыпается в душе то ли тоска о минувшем времени, то ли грусть о несбывшихся надеждах. Когда лежит на сердце тяжкой памятью бремя ошибок, воспоминания о которых то ли надо оставить в прошлом, то ли часть все-таки взять с собой в будущее, чтобы никогда больше не повторять.
В спальню Ольги князя не пустила повитуха – бойкая пожилая женщина, прямо перед ним задернув занавеску в проходе, ведущем в лежню. Княгиня была на сносях и чувствовала себя неважно. Все ожидали появления долгожданного наследника и встречали Игоря восторженно-радостными лицами. А у него на душе было неуютно. Когда он взял в свои руки бразды правления Русью, военное счастье слишком часто отворачивалось от него. С раннего детства его оберегали от трудностей и воинских потех. Он всегда получал то, чего пожелает. Надо было лишь немного покапризничать. Денно и нощно следили, как бы он не попал в беду или не съел то, чего не следует. Ведь он был единственный наследник. После внезапной смерти Вещего Олега выпало ему счастье занять престол. Знатные бояре продолжали относиться к нему, как к капризному ребенку. Спросить совета и получить поддержку было не у кого. Приходилось полагаться на собственное избалованное самолюбие.
На днях он вернулся из похода. Причиной набега стало известие от непокорных вятичей. На его требование платить данину, те завернули гонца обратно и передали, что забижают их хазары и приходится от них откупаться, а киевскому князю дать уже нечего. Пусть сначала Игорь по примеру своего пестуна с жидовинами разберется, а уж потом с ними разговор ведёт.
Жили вятичи посреди дремучих лесов, болот и топей. В краю богатом мёдом, пушниной, воском. Пограничные реки Десна, Осетр, Трубеж, Сула протекали в их краю на пути незваных гостей. Городки Мценск, Козельск, Ростиславль, Лобинск прикрывали столицу княжества Дедославль. Управляли ими, как исстари повелось выборные князья, с которыми договориться в убыток людям было невозможно. Воины у них тоже не последние на Руси. Для того чтобы жить в покое, предпочитали они отдавать незначительную часть своего богатства одному из наиболее сильных противников. После долгой беседы с посланником к вятичам боярином Серко, задумал Игорь, по примеру Вещего Олега, проучить хазар, чтобы дань шла только ему.
В поход пошёл своей дружиной, дабы сохранить всё в тайне, ну и всю добычу прибрать себе. Взял он хазарский город Самкерц, основанный на Тамани ещё греками. Городок был маленький, но богатый. Дома в нем стояли по большей части каменные, двухэтажные. Гарнизон был тоже невелик, Игорь его быстро разогнал. Ближе к вечеру ему донесли, что к городу приближается хазарское войско во главе с Пселом. Поднялся он на ближайший холм и увидел клубы пыли над бесчисленными колоннами вражеских всадников. Может, они и были не бесчисленными, но у страха глаза велики. Понёсся Игорь, спасаясь от преследования, впереди дружины. Только темнота и выручила от полного разгрома. По возвращению в Киев стали его беспокоить мысли, что не сможет он прославиться, как Олег, и богатства такого у него не будет. Да и как бы держава совсем не рассыпалась. «Сейчас вятичи отошли, хазары клюют, а что потом? – спрашивал он себя. – Надо о славе своей позаботиться. Казну пополнить, варягов нанять побольше, чтобы и свои, и чужие бояться зачали…»
Игорь бродил по терему, пугая челядь хмурым видом. Был он невысокого роста, приземистый и широкоплечий. В бороде пробивались первые седые волоски. Лицо у него было обветренное и смуглое. Глаза достались Игорю от отца голубые, даже скорее синие. По пути князь ущипнул ключницу Домну. Круглая, плотно сбитая деваха хихикнула и, видно подманивая, спряталась в тёмном углу. Но ему нынче не до пряток. На выходе, в окне с цветными стеклышками он увидел перекошенное лицо, сгоряча плюнув прямо на свое отражение. Во дворе отругал конюшего за то, что тот в последнее время плохо ухаживал за лошадьми. Сделал разнос стряпчему за подгоревший хлеб. У ворот он приказал щуплому воину:
– Кучур, скажи воеводе, чтобы к вечеру созвал мне старших дружинников. Да, чтоб не забыл посадника позвать и тысяцкого!
День пролетел в пустяшных хлопотах. Игорь встретился с двумя боярами, потом с греческими купцами. Одни просили себе под посевы землицы побольше – другие, чтобы с них брали мыто1 поменьше. Разговаривал он со всеми свысока. Бояр он обвинил в том, что они мало платят в казну, а купцов, что у тех у самих в Царьграде с русских торговцев берут ещё больше. Игорь полагал, что любому можно отказать или даже наказать человека за назойливую просьбу, и в глубине души тот будет думать, что действительно в чем-то виноват.
На закате дня в просторной горнице, осветленной стрельчатыми оконцами, за узким длинным столом рассаживались постаревшие Стемид и Руальд, сухощавый и жилистый Велимудр, Молот, Девятко, Свенельд, Асмуд и ещё несколько дружинников. Во главе стола на высоком резном стуле восседал Игорь. Вид у него был суровый. Когда все расселись, он, сдвинув брови, проговорил:
– Я вас, други, собрал в сей трудный для отчины час. Обсудить треба, куды нам путь дале держати.
Он помолчал и, оглядев воинов, стараясь придать своему голосу ещё большую строгость и твердость, сказал:
– Задумал я на греков итить. Добычу богату взять. Потома можна и на хазар ополчиться.
Сидевшие за столом переглянулись.
– На хазар ты уже ходил и нас не спросил. Войско не собрал, каково следует. Токо своей дружиной пошёл. Теперь хазаре, поди, насмехаются над нами, – высказался Асмуд.
Игорь вновь нахмурил брови.
– То дело случая. Сёдни они нас, а завтрева мы их. Тебе, Асмуд, я поручение готовлю. Будешь ты по рождению моего сына пестать. Воинским наукам обучати.
– А коли дочь родитси? – усмехнулся Стемид.
– Волхвы сына пророчат, – бросил Игорь.
– С пелёнок мне, што ли, его пестать? – спросил Асмуд.
– Как на коня посадят, так и пестать начнёшь! А покуль иди готовься!
– Так до ентого ишо не один год пролетить.
– Усё одно, иди отседова, – проронил Игорь, убирая с Совета своего приятеля по детским играм, который мог в любой момент открыто ему возразить и высказать правду прямо в лоб.
Едва за Асмудом захлопнулась дверь, он взглянул на юного сына Веремида.
– А ты, Свенельд, с нонешнего дня будешь воеводой. Готовь войско для похода. Ладей надо много. Кузнецам наказ дай на кольчуги и копья. Стрел надо боле готовить. Много оружия надобно.
– Как скажешь, князь, – радостно ответил тот.
– На Царьград итить – дело нешуточное, – проговорил Стемид. – Времени немалого потребуется, штобы усе как след приготовить.
– На Царьград никто и не пойдёть. Пройдёмся по землям византийским, разорение чиня, штобы выкуп нам дали. И войска мало надоть, и пользы больше. Тебе, Стемид, тожа пора отдохнуть. Будешь теперя охрану терема княжеского и крепости блюсти. Остальные дела тебе не касаютси.
– Тебе оно виднее, – ответил, поднимаясь, Стемид.
– Ступай, – бросил ему Игорь.
После короткого совещания решение о военном походе на Византию было принято.
Как-то на рассвете терем огласили крики новорожденного. У Игоря появился долгожданный наследник. Назвали его Святославом. Широко открытые глазёнки смотрели на мир с живым интересом. Его будущий наставник Асмуд, глядя на круглое личико, промолвил:
– Воин родилси. Вишь, как ножками сучит. Славу Руси принесёт.
– Для жука его младенец тоже красавец писаный, – проговорила повитуха. Она трижды сплюнула через плечо. – Иди-ка отсель, покуда не сглазил.
Игорь навестил родившегося сына и Ольгу всего один раз. Вовсю шла подготовка к новому походу. Поздней весной множество ладей пошли вниз по Днепру. Свинцовые воды реки неприветливо утекали за бортами. Бурлили пороги. Часть войска шла по берегу, предупреждая внезапные набеги кочевников. Остановились ненадолго в устье реки, а потом пошли вдоль берега Русского моря2.
Следующая остановка была ближе к Дунаю, что дало возможность болгарским купцам первыми предупредить греков о надвигавшейся угрозе. Получив известие о появившихся русах, император Роман I Лакапин долго мучился сомнениями, как вести войну, пока один из придворных не доложил ему о нескольких десятках списанных ввиду ветхости хеландий, валявшихся по берегам залива. Он поручил патрикию Феофану поставить корабли на воду и оборудовать сифонами для метания греческого огня. Устройства поставили не только, как принято – на носу, но на корме и по бортам судов. Скоро посудины закачались у входа в пролив в ожидании ладей русов.
Игорь решил высадиться в провинциях Пафлогонии и соседней с ней Вифинии, в тех местах, где берег далеко выдавался в море. Византийских войск поблизости не оказалось.
Заскользили ладьи, одна за другой выскакивая на отмели. Прыгали воины на берег, крепили суда и начинали продвижение, разоряя ближайшие окрестности. Особенно страдали поместья богатых греков.
Пока шёл грабёж побережья, подошли стратиг Варда Фока с всадниками и отборными воинами из Македонии, стрателат Фёдор из Фракии со своими центуриями3, доместик Иоанн Куркуас с сорока тысячами воинов. Греки наращивали силы.
Свенельд послал в Вифинию большой отряд, чтобы пополнить запасы продовольствия, но тот наткнулся на засаду Варды Фоки и был практически уничтожен. Князь Игорь, получив данные о приближающихся армиях греков и растущих потерях, принял неожиданное решение идти на Константинополь. Его логика была проста: греки стянули все силы к побережью, где они высадилась, и столица должна остаться незащищённой.
В сухую солнечную погоду ладьи пошли к проливу. Дул легкий ветерок. Шли точно к тому месту, где их уже поджидали хеландии с многочисленными сифонами для метания огня. Как только показались первые русские ладьи, командующий византийским флотом Феофан приказал идти навстречу. Ветер совсем стих, и море лежало, как сине-зелёная скатерть, – ровное до самого горизонта. Суда шли под мощными взмахами вёсел, переливаясь в лучах яркого южного солнца. Разлетались в стороны тысячи брызг. Тихоходные хеландии даже после ремонта имели жалкий вид. Делалось всё в большой спешке. Облезлые борта и неспешный ход опасности не внушали, а порой вызывали улыбку. Хотя за ними в отдалении и двигалось несколько более современных и скоростных дромонов и триер. Когда Игорь увидел крадущиеся ему навстречу византийские корабли, он прокричал на ухо Свенельду:
– Сей час зададим жару грекам! Надо в полон поболе народу взять! Дабы выкуп за них стребовать!
Свенельд недоверчиво покачал головой. Он уже разглядел на носах и по бортам приближавшихся судов необычные металлические трубы, смотревшие чёрными отверстиями в сторону русских ладей. Греки подошли ближе. В полной тишине, с громким шумом и треском над хеландиями взвилось множество шаров с огненными хвостами. Они падали на борта, вёсла и палубы славянских ладей, жаркими ручьями растекаясь по поверхности. Горело почти всё и даже то, что гореть вроде бы не должно. Смесь серы, нефти и масла пылала даже на воде. Воины стали бросаться в море. Доспехи тянули многих ко дну. Кольчуги и шлемы хороши для боя, но не для плавания.
Игорь поначалу не мог произнести ни слова. Он растерянно смотрел на стоявшего рядом воеводу. Потом крикнул рулевому, чтобы тот развернул ладью. Свенельд понял, что князь хочет предоставить воинов самим себе, и перепрыгнул на другое судно. Он приказал всем, кто был поблизости, идти ближе к берегу, на мелководье, где греческие корабли с более глубокой осадкой были бессильны. Игорь в это время поднял парус и в сопровождении нескольких ладей взял курс на родину.
Воеводе удалось вывести из-под огня большую часть судов и, пройдя вдоль побережья, снова высадиться. Ещё несколько месяцев он тревожил набегами провинции империи. Свенельд избегал столкновений с крупными соединениями греков, продолжая дерзко нападать на мелкие гарнизоны и городки у моря. Если поначалу русские воины обходились с местным населением довольно милостиво, то теперь жители городов Никомедии, Гераклии, да и многих других содрогнулись. Дружинники мстили за своих погибших товарищей. Поздней осенью воевода посадил воинов в загруженные добычей ладьи и повёл оставшихся в живых к родным берегам.
Игорь встретил вернувшихся русичей так, как будто ничего и не случилось. Он, как ни в чем не бывало, похлопал Свенельда по плечу.
– Я поплыл назад, штобы потома возвернуться за вами, – сказал он. – А ты добру брань затеял.
Воевода усмехнулся:
– Ты, князь, завсегда поступаешь мудро.
Игорь посмотрел внимательно на Свенельда, но тот уже смахнул с лица улыбку.
– Я не ошибси в тебе, – проговорил Игорь.
От очередного поражения князь Игорь оправился быстро. Он ни на минуту не оставлял мыслей о славе, но более всего о богатстве, считая всё временными неудачами, а гибель простых людей – их обязанностью. О том, чтобы обвинить себя в просчетах, не могло быть и речи. Но в этот раз он нашёл поддержку во многих славянских землях. Все в один голос заговорили о непременном отмщении грекам за нанесённое поражение и гибель множества русов. Закипела работа по подготовке нового похода. Готовились не спеша, более двух лет. Свенельду удалось взять в заложники нескольких печенежских вождей, а за их освобождение потребовать присоединение печенежского войска к нашествию на Царьград. Было решено, что если вновь случится морское сражение – держаться мелководья, где преимущество было на стороне русских ладей.
Подошло время, и дружины, миновав пороги, спустились на воды Русского моря. Полетели гонцы к императору Роману с вестью о несметном количестве русов. Он тут же направил своего посланника к Игорю с предложением о мире. На Совете старших дружинников общее мнение воинов огласил Руальд: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, – не бившись, взять золото, и серебро, и паволоки? Разве знает кто – кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть»4. Память о поражении под Царьградом ещё не была забыта. Приняв богатые дары, Игорь развернул войско.
Через год в Киев приплыли послы из Константинополя для подписания договора, правда, уже от другого императора. Хитрого, умного и честолюбивого правителя – выходца из простых крестьян, сумевшего раскрыть против себя не один заговор Романа I сместили с трона собственные сыновья: Стефан и Константин. Они сослали его в монастырь на остров Проти в Мраморном море, но через некоторое время и сами оказались там же. На остров их отправил занявший трон соправитель Романа – Константин VII Багрянородный, сын Льва VI и Зои Карбонопсины – имевший, по сути, больше прав на престол. Встречая на далёком острове у причала сыновей, Роман I не скрывал своего злорадства.
– Ну что, вернулись с короной? – Он ехидно добавил: – Видно, не успели надеть, чтобы отцу показать.
Сыновья переглянулись. Стефан, понурив голову, бросил:
– Прости, отец. Нас провели, как младенцев.
Его брат встал на колени.
– Мы в твоей власти.
Роман принял сыновей под своё крыло, давно потерявшее былую силу.
…Новый император Константин получил своё прозвание от названия зала во дворце, где он родился – (Порфирного) Багряного. Этим лишний раз подчеркивалась его принадлежность к императорскому роду. Теперь уже он начал налаживать отношения с Русью.
Послы вручили Игорю подписанные им тексты:
«I. Мы от рода Русского, Послы и гости Игоревы… Мы, посланные от Игоря, Великого Князя Русского, от всякого Княжения, от всех людей Русския земли, обновить ветхий мир с Великими Царями Греческими, Романом, Константином, Стефаном, со всем Боярством и со всеми людьми Греческими, вопреки Диаволу, ненавистнику добра и враждолюбцу, на все лета, доколе сияет солнце и стоит мир. Да не дерзают Русские, крещеные и некрещеные, нарушать союза с Греками, или первых да осудит Бог Вседержитель на гибель вечную и временную, а вторые да не имут помощи от Бога Перуна; да не защитятся своими щитами; да падут от собственных мечей, стрел и другого оружия; да будут рабами в сей век и будущий!
II. Великий Князь Русский и Бояре его да отправляют свободно в Грецию корабли с гостьми и Послами. Гости, как было уставлено, носили печати серебряные, а Послы золотые: отныне же да приходят с грамотою от Князя Русского, в которой будет засвидетельствовано их мирное намерение, также число людей и кораблей отправленных. Если же придут без грамоты, да содержатся под стражею, доколе известим о них Князя Русского. Если станут противиться, да лишатся жизни, и смерть их да не взыщется от Князя Русского. Если уйдут в Русь, то мы, Греки, уведомим Князя об их бегстве, да поступит он с ними, как ему угодно.
III. Гости Русские будут охраняемы Царским чиновником, который разбирает ссоры их с Греками. Всякая ткань, купленная Русскими, ценою выше 50 золотников (или червонцев), должна быть ему показана, чтобы он приложил к ней печать свою. Отправляясь из Царяграда, да берут они съестные припасы и все нужное для кораблей, согласно с договором. Да не имеют права зимовать у Св. Мамы и да возвращаются с охранением.
IV. Когда уйдет невольник из Руси в Грецию, или от гостей, живущих у Св. Мамы, Русские да ищут и возьмут его. Если он не будет сыскан, да клянутся в бегстве его по Вере своей, Христиане и язычники. Тогда Греки дадут им, как прежде уставлено, по две ткани за невольника. Если раб Греческий бежит к Россиянам с покражею, то они должны возвратить его и снесенное им в целости: за что получают в награждение два золотника.
V. Ежели Русин украдет что-нибудь у Грека или Грек у Русина, да будет строго наказан по закону Русскому и Греческому; да возвратит украденную вещь и заплатит цену ее вдвое.
VI. Когда Русские приведут в Царьград пленников Греческих, то им за каждого брать по десяти золотников, если будет юноша или девица добрая, за середовича восемь, за старца и младенца пять. Когда же Русские найдутся в неволе у Греков, то за всякого пленного давать выкупа десять золотников, а за купленного цену его, которую хозяин объявит под крестом (или присягою).
VII. Князь Русский да не присвоивает себе власти над страною Херсонскою и городами ее. Когда же он, воюя в тамошних местах, потребует войска от нас, Греков: мы дадим ему, сколько будет надобно.
VIII. Ежели Русские найдут у берега ладию Греческую, да не обидят ее; а кто возьмет что-нибудь из ладии, или убиет, или поработит находящихся в ней людей, да будет наказан по закону Русскому и Греческому.
IX. Русские да не творят никакого зла Херсонцам, ловящим рыбу в устье Днепра; да не зимуют там, ни в Белобережье, ни у Св. Еферия, но при наступлении осени да идут в домы свои, в Русскую землю.
X. Князь Русский да не пускает Черных Болгаров воевать в стране Херсонской….
XI. Ежели Греки, находясь в земле Русской, окажутся преступниками, да не имеет Князь власти наказывать их; но да приимут они сию казнь в Царстве Греческом.
XII. Когда Христианин умертвит Русина или Русин Христианина, ближние убиенного, задержав убийцу, да умертвят его. Когда убийца домовит и скроется, то его имение отдать ближнему родственнику убитого; но жена убийцы не лишается своей законной части. Когда же преступник уйдет, не оставив имения, то считается под судом, доколе найдут его и казнят смертию.
XIII. Кто ударит другого мечем или каким сосудом, да заплатит пять литр серебра по закону Русскому; неимовитый же да заплатит, что может; да снимет с себя и самую одежду, в которой ходит, и да клянется по Вере своей, что ни ближние, ни друзья не хотят его выкупить из вины: тогда увольняется от дальнейшего взыскания.
XIV. Ежели Цари Греческие потребуют войска от Русского Князя, да исполнит Князь их требование, и да увидят чрез то все иные страны, в какой любви живут Греки с Русью»5.
Договор был менее выгодный, чем заключённый Олегом. Он обязывал киевского князя участвовать во всех войнах на стороне Византии, защищать Корсунь от нападения болгар. В нем просматривалось немало уступок, сделанных грекам. Игорь, обнажив меч у статуи Перуна на святилище, в присутствии многих дружинников и византийских послов дал клятву, что будет соблюдать условия договора. Второй текст послы увезли в Константинополь.
Полученные дары из Царьграда пошли в качестве выплаты многочисленным воинам от всех земель и варягам за участие в походе. Большого богатства военная компания Игорю не принесла, хотя несколько укрепила его положение – как государя Руси. Но собственная дружина Игоря была недовольна.
Однажды Игорь, как обычно, обходил дворовые постройки крепости, учиняя разнос нерадивой челяди.
– Здраве будь, княже, – издалека заметив князя, поклонился ему Кучур. Он после похода получил звание сотника и вернулся на своё старое место у ворот.
Игорь на этот раз был в хорошем настроении.
– Здраве будь, сотник. Каково тебе и твоим воям ныне живётся? – спросил он у стражника.
– Похвастаться нечему, князь. Охрана твоя боса и нага. Свенельдовы вои изоделися усе. Оружия и одёжи не перечесть. А мы яко сироты, – жалобным голосом протянул Кучур.
– Как токо в полюдье к древлянам отправимся, и вы приоденетесь, – успокоил его Игорь. Он по своей привычке похлопал того по плечу и поспешил в терем к обеду.
II
Путята и Добрыня бродили по колено в воде. Сплетёнными из ивовых прутьев корзинами они старательно шарили по дну. Заводь не менее, а может и более, чем сама река была наполнена рыбой. Ноги с легкостью погружались в мягкий податливый ил, и снизу вздымались огромные грибовидные клубы. В мутной взвеси почти вся рыба поднялась и заскользила по поверхности. Налимы извивались, словно змеи. Щурята проплывали незаметно, оставляя лёгкий след, но и те и другие не уходили от рыбаков.
На берегу высилась гора пойманной добычи: щуки, вьюны, окуни. Мелкую рыбёшку приятели милостиво выпускали обратно в воду. За мальчишками, то и дело одобрительно покрякивая, внимательно наблюдала большая лягушка с выпученными глазами. Путята помахал в её сторону рукой, и она, может даже от обиды, плюхнулась в реку.
Чуть дальше заводи был глубокий и темный омут. Туда ребята не доходили. В черной пугающей глубине и водяной, и русалка могли притаиться. А уж сомище мог запросто облюбовать для себя такое место жительства. Всего было вдосталь в краю, где они росли. В воде водилось много рыбы, над водой – птицы, в лесу – зверя. В дуплах было полно меда, а в травах – ягоды. Но все то богатство, что давала родная земля, доставалось тяжелым трудом с потом, а порою и с кровью.
Путята, пробираясь вдоль берега, спросил:
– Добрыня, как ты думашь, удастся с хазарами ноне замириться, али нет?
Высокий худой мальчишка ростом пошёл в своего отца – за стать и могучую фигуру, носившего шутливое прозвище Мал, ставшее навеки его настоящим именем. Он умными, задумчивыми глазами взглянул на приземистого паренька.
– Сего, окромя хазар, никто не ведаить. Токо отче сказывал: не раз ишо браниться с ими будем.
– То так, – согласился Путята.
Поднявшись на берег с корзиной, наполненной на одну треть, он показал на уже наловленную гору рыбы:
– А не хватить рыбалить-то?!
– Пожалуй, хватить, – ответил Добрыня. – Давай завтрева лучше на охоту пойдём. Говорят, в урочище за гнилым болотом кабана полным-полно.
– Пойдём, – добродушно отозвался Путята.
По берегам быстрой речушки Уж – извилистой и говорливой, там, где она с легким журчанием катила воды, на двух высоких холмах из красного гранита стоял древний Искоростень. Крепостная стена, опоясывавшая город, была сложена из многовековых дубовых стволов.
У подножия крепости уже появилось много обработанных участков, где древляне выращивали лён, сеяли рожь, но по большей части вокруг – насколько хватало глаз, простирались девственные леса и непроходимые болота. Отсюда и название жителей: деревляне – древляне. Но была и вторая причина прозвания племени. Древний вождь славян Богумир в давние времена имел от жены Славы трех дочерей: Древу, Скреву и Полеву и сыновей Сева и Рус. Так и пошли от них: древляне, кривичи, поляне, северяне и русы.
Город жил своей обычной жизнью. Проходили редкие прохожие. Скрипели плохо смазанные колеса телег, подвозившие собранный урожай или товар на продажу: пушнину, лён, кожу, мёд… Позванивало серебро, а то и золото в сундуках древлян. Кудрявились золотистые вихры ребятишек, будто завитые в локоны солнечные лучи. Небесные искры добра отражались в глазах русичей: от озер – в синих; от коры дубовой и омутов речных – в темно-карих; от травы – в изумрудно-зеленых; от цвета осенней водицы – в серых.