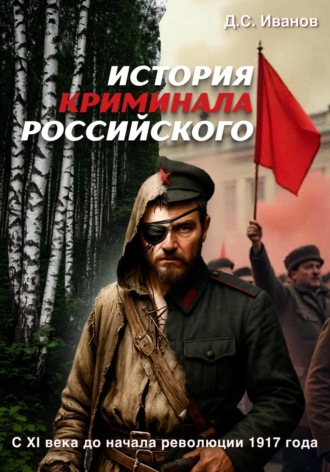
Полная версия
История Криминала Российского
Были направлены письма в Разбойный приказ с вопросом "повелении цареве, что им повелит сотворити над всеми губители". Вскоре пришел ответ. Ивана Матренина повесили, а его подельников приговорили к пожизненному заключению. Имущество же разбойников было распродано. Часть вырученных денег пошла в обитель, часть – в казну. Тело святого Адриана было найдено и погребено с почестями.
Теперь давайте структурируем полученную информацию. Прежде всего, обратим внимание на неплохое вооружение крестьянской банды. У них есть и доспехи, и мечи, и копья, и рогатины. И если рогатины и копья стоили относительно недорого, то мечи и доспехи – вещи куда более ценные. Но все же они у крестьян имеются. Следовательно, есть два варианта: либо они купили это оружие, а значит, занимались грабежами и раньше, либо оружие и защита были украдены. Что менее вероятно, так как, судя по тексту, разбойники спокойно пытали и убивали, а значит, подобный опыт у них уже был.
Во-вторых, скорее всего, это была многочисленная банда. В монастыре находилось до 40 человек на момент ограбления, а значит, разбойников должно было быть достаточно, чтобы у монахов не возникло желания сопротивляться, а также для контроля территории, захваченных трофеев и дороги к монастырю. Точное число осужденных, к сожалению, не называется, но то, что их было больше десятка, можно утверждать с уверенностью.
В-третьих, стоит обратить внимание на иерархию, царящую в этом осином гнезде, разделение труда и неписаный кодекс, скрепляющий шайку лихих людей. Во главе всего этого злодейства стоит священник Косарь, а среди разбойников чётко распределены роли: одни пытают, другие убивают, третьи контролируют подступы к Монастырю, а иные сторожат связанных пленников. Сам Иван Матренин идёт с повинной, неся сосуд к своим подельникам, ибо преступил закон воровской – "дерзнул неподобное, украл у своея братии сосуд ларечьный". И решение о его дальнейшей судьбе выносит вся банда, как на кругу.
Единственная ахиллесова пята этой организации, судя по всему, – сбыт награбленного. Баба язвительно насмехается над Косарем: "Безумный поп не знает, куда награбленное спрятать, а еще хочет разбойничать". Впрочем, возможно, затруднения возникали именно с кистями и образами, ведь наверняка с более приземленными трофеями проблем у них не возникало.
Дворяне-преступники
Разбойничий промысел не был уделом лишь простолюдинов. В апреле 1679 года государев двор содрогнулся от известий: столичные чины, сливки общества, сколотили банду и годами безнаказанно грабили и убивали в Подмосковье. Возглавлял эту шайку стольник Прохор Васильевич Кропотов. Вместе с ним в злодеяниях участвовали стольники С.И. Кропотов (родственник), И.Б. Зубов, Г.М. Бахметев, Я.С. Ахматов, стольник царицы Д.Б. Зубов, а также стряпчие и московские дворяне. Для понимания, стольник первоначально был прислужником за княжеским столом, но со позднее стольники назначались на приказные, воеводские, посольские и другие должности. Эти люди не только прислуживали государю во время трапез, но и сопровождали его в поездках, охраняли, а порой даже становились наместниками. В иерархии чинов XVII века стольники занимали почетное пятое место, уступая лишь боярам, окольничим, думным боярам и думным дьякам. Как видите, это были "птицы" весьма высокого полета.
Сам Кропотов начинал карьеру приказчиком в вотчине князя Голицына, где, по слухам, задолжал князю крупную сумму. Впоследствии он был переведен в Москву, ко двору государеву. И его дело стало поистине уникальным в истории Российского государства. Впервые и, пожалуй, в последний раз, высшие чины империи организовали банду и принялись разорять окрестности Москвы. А грабили они с неслыханной жестокостью. В "Записках приказных людей конца XVII века" М.Н. Тихомирова сохранилась запись приказного человека, гласящая: "за ево воровство, что он многие села и государеву казну розбивал и многих людей губил, и деревни выжигал, и всякое блудное насилие над бояронами и над девицами чинил". Всего банда насчитывала от 100 до 150 человек. Примечательно, что все эти люди грабили без участия холопов, то есть банда состояла исключительно из "госслужащих". Днем они охраняли государя, вершили государственные дела, а ночью, облачаясь в личины разбойников, творили бесчинства и насилие.
Их злодеяния вынудили ввести патрулирование в Подмосковье. Боярин Хлопков, возглавивший патрули, напал на след банды и начал ее преследование. По некоторым данным, Хлопков с самого начала подозревал причастность к делу государевых людей – слишком долго и безнаказанно продолжались разбои. Такое было немыслимо без покровительства "сверху". В итоге большая часть банды была схвачена, и ее члены, не колеблясь, назвали Кропотова главарем.
Началось следствие, и на допросах выяснилось, что Кропотов, помимо грабежей, изрекал крамольные речи. Он грозился бежать к полякам, вернуться с войском и захватить столицу, что в те времена расценивалось как тягчайшая государственная измена. Сам Кропотов с частью банды бежал из Москвы. Однако некоторые из его подельников были пойманы и поспешили подать повинные челобитные.
Прохор Васильевич попробовал искать защиты у князя Голицына, которому служил, но тот открестился от него. Хотя сам Кропотов в это время скрывался в селе Городня под Тверью, которое принадлежало Голицыну. С просьбой о заступничестве он также обратился к Князьям Волконскому и Чертенскому, но также не нашел поддержки. Здесь мы, возможно, видим прямой намек на участие в освоении награбленного данными князьями. Одним из намеков может служить то, что после пыток, были установлены лица, участвовавшие в деятельности банды и по их адресам были отправлены военные силы для задержания. Но, многие из них, будучи до этого здоровыми, умерли при пересылке, либо в тюрьме, в которой оказались. Сами князья Волконский и Чертенский были отправлены в родовые имения. Но мы можем и ошибаться, на данный момент уже нельзя проверить данную информацию.
Самого Прохора Кропотова, словно глупую рыбешку, выманили на удочку письмом от князя Голицына, обещавшего уладить все его прегрешения и приглашавшего в Москву. Будучи уверенным, что князь смог решить вопрос с его преступлениями, он поехал в столицу со спокойной душой, но был схвачен по дороге. Его провезли по улицам Москвы на той же телеге, на которой везли на казнь ранее Стеньку Разина. И, действительно, по характеру действий он был к нему близок. 16 июля 1679 года на Красной площади, под неумолимым взглядом толпы, головы Прохора Кропотова, его брата Лаврентия и стольника Зубова скатились на плаху. Так бесславно оборвалась история банды, костяк которой составляли государевы слуги, дворяне, облеченные властью.
Но что же, спросит въедливый читатель, толкнуло этих, казалось бы, не самых бедных людей, обладавших приличным положением, на скользкую дорожку разбоя? Ответ кроется в том, что после лихолетья Смуты государев Двор разросся, как тесто на дрожжах, вбирая в себя выходцев из верхушки городских и уездных корпораций (многие из будущих разбойников оказались при дворе всего за два-три года до начала своих темных дел). Практически каждый из них владел в среднем 20-30 дворами, а сам атаман – и вовсе восемьюдесятью. Даже у самого скромного, стряпчего Абросимова, было в собственности не меньше десяти дворов. Однако доходных должностей на всех не хватало, а соответствовать блеску и роскоши московского дворянства, дабы не ударить в грязь лицом, жаждали все. К тому же, как мы помним, Прохор задолжал князю Голицыну немалую сумму. Вероятно, стремление поскорее расплатиться с долгами и общее желание соответствовать высокому статусу новоиспеченных дворян и подтолкнуло их к созданию этой дерзкой банды, вошедшей в историю своей необычностью и, конечно же, жестокостью.
Казаки- разбойники
Все мы с детства знаем игру “казаки- разбойники”. Группа людей делится на две команды, одни отыгрывают разбойников, другие становятся защитниками- казаками. И ведь не зря! Казаки – вечные защитники рубежей, воины, что ковали славу в военных кампаниях, вплоть до самых современных времен. А до начала XX века они частично осуществляли и полицейские функции.
В XVI-XVII веках казачество оформилось в особое сословие, чьей главной задачей была оборона государственных границ. Т.е. они были служивым сословием, но живущим в основном также за счет обработки земли. Ряды их пополнялись не только приграничными жителями, но и потоком беглецов, искавших у них воли. Соборное уложение 1649 года прикрепило крестьян к земле навечно, и путь на Дон стал для многих единственным спасением. "С Дону выдачи нет" – гласила неписаная казацкая заповедь. Но бежали к казакам не только крестьяне. Часто это были люди, вступившие в конфликт с властью: разбойники, беглые каторжники, горожане, несправедливо обвиненные и видевшие в казачьей вольнице последний шанс. Вспоминаются и вольные ушкуйники, когда-то вынужденные искать пристанище на Дону.
В большинстве своем казаки были служилым сословием, верно исполнявшим свой долг, охраняя границы и участвуя в военных походах. Но была и другая сторона – вольница разбойных казаков, любивших поживиться за чужой счет, не гнушавшихся грабежом и на территории государства Российского. Собирались такие удальцы в крупные ватаги и бесчинствовали на Волге, обирая купцов, разоряя караваны и местное население. Их прозвали воровскими казаками.
Конечно, государство не могло терпеть такого своеволия и пыталось усмирить буйных атаманов, посылая вооруженные отряды. Но те были неуловимы. Молниеносный набег, богатая добыча и быстрый отход – вот их тактика, позволявшая наживаться без особых последствий. Не стоит забывать, что XVI-XVII века – эпоха непрерывных войн и Смуты, что давало разбойникам немалую свободу действий.
Так, в 1581 году на Волге они разграбили посольство ногайцев и сопровождавших их купцов из Бухары. Добычу казаки присвоили себе, а пленных вместе с конвоем отправили к Ивану Грозному. Царь был в ярости. Ногайцев он повелел отпустить, а казаков, сопровождавших их, повесить. Главари разбойничьей шайки, Богдан Барбоша и Никита Пан, были вынуждены бежать на реку Яик (Урал), а затем присоединиться к отряду Ермака Тимофеевича, чтобы вместе отправиться покорять Сибирь.
Наибольшую вольницу воровские казаки получили во времена Смуты. Ослабление государственной власти, голод, появление Лжедмитриев и хаос, царивший повсюду, позволили казакам проявить свою темную сторону. Многие казаки приняли сторону самозванцев, другие воевали на стороне ополчений и государственной власти, но были и те, кто под шумок творил бесчинства, наводя ужас на мирное население.
В донесении из дозорной книги о костромской вотчине А.И. Полтева сказано: "К 1615 г. из 50 осталось всего 9 крестьянских и 10 бобыльских дворов; 6 дворов были сожжены казаками в 1613/14 г. и 25 запустели: их владельцы, по данным дозорной книги, „от казаков и от черкас посечены и от казачья разоренья разошлись в мир безвестно“."
В советской историографии долгое время казачество тех лет представлялось лишь как стихийная сила крестьянской борьбы против помещичьего гнета. Однако, кровавая реальность Смутного времени опровергает этот упрощенный взгляд. В Вологодском уезде казачьи шайки, сожгли деревни Суслово и Рожково, оставив за собой лишь пепел и братские могилы.
Атаман Баловень, выходец из Данковского уезда Рязанской земли, – зловещий символ разгула воровских казаков в Смуту. Соблазнившись льстивыми речами Лжедмитрия I, он примкнул к самозванцу, но вскоре переметнулся под знамена князя Трубецкого. Осенью 1613 года Баловня отправили к Новгороду – якобы для защиты от шведов. Но по пути, под прикрытием “кормления”, оказавшись в Тверском уезде, казаки стали заниматься откровенным грабежом местного населения. Таким образом они прошлись по Костромским и Ярославским землям, затем взяли в осаду Вологду. В ноября 1614 года из Ярославля была отправлена карательная экспедиция для борьбы с Баловнем. Но казаки уклонились от прямого столкновения с войсками. Отошли в Каргопольский уезд и разграбили местное население, убив до 2000 человек. Казаки Баловня как будто перестали быть людьми. Везде, где они были, их деятельность сопровождалась жестокими пытками, насилием, поджогами и убийствами. Не пощадили они и святыню, разорив в декабре 1614 года Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь.
Лишь после череды поражений от царских войск Баловень смиренно запросил о государевой службе! Удивительно, но ему вняли и вновь попытались направить воевать против шведов. Однако весной 1615 года отряд Баловня (численность которого по разным источникам оценивается от 5 до 20 тысяч) двинулся к Москве, и в июне встал лагерем в селе Ростокино (ныне район ВДНХ). Воеводы с ужасом доносили: "Села и деревни разорили и повоевали до основания, крестьян жженых видели мы больше семидесяти человек, да мертвых больше сорока человек, мужиков и женок, которые померли от мученья и пыток". Царский указ запретил кому-либо ездить в Ростокино. В то время основные силы были брошены против "лисовчиков", и лишь подошедший из Ярославля отряд Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского смог справиться с Баловнем. Атаман был схвачен во время переговоров, а около трех тысяч казаков – арестованы. 23 июля Баловень был повешен в Москве за ребро. В отряде Баловня, помимо казаков, были и беглые боевые холопы, и даже обедневшие дворяне и дети боярские, оправдывавшие свое участие в разбое нищетой и разорением. По царскому указу, их поместья были конфискованы.
Но не только имя Баловня осталось в памяти тех смутных времен. Особенной, мрачной славой покрыл себя отряд "Лисовчиков" – польско-казачье формирование под предводительством Александра Юзефа Лисовского, чьим именем и был назван этот отряд.
Рождением лихой ватаги стала конфедерация шляхтичей-солдат, что в годы польско-шведской войны (1601-1605) бились под знаменем Лисовского. Не получая жалованья, оные воины обратились к грабежу, предавая города и веси огню и мечу. За сии злодеяния Лисовский был лишён шляхетского достоинства и объявлен вне закона. Не миновала его и смута рокоша Зебжидовского – легального, но безуспешного восстания шляхты против властолюбивых замашек Сигизмунда III. После поражения мятежников, Александр с отрядом бежал в русские земли, поступив на службу Лжедмитрию II.
Поначалу немногочисленные – всего 500-600 сабель, – лисовчики, взяв город Карачев, обрели пополнение в лице вольных казаков, признавших в своем предводителе «батьку». И численность его воинов возросла. С переменным успехом рубился отряд в боях, не раз вырывая победу за счет стремительности своих атак. В этом и заключалась главная сила лисовчиков: все были конными с переменными лошадьми, они были словно вихрь на полях сражений. Так, они разбили ополчение Ляпунова под Зарайском, затем овладели Коломной и Михайловым. Но и их постигла неудача – поражение под стенами Троице-Сергиевой Лавры. В 1610 году лисовчики ворвались в Псков. В 1612-м – участвовали в обороне Смоленска, а после три года стояли на страже польских границ. В 1615 году они совершили дерзкий рейд в самое сердце Русского царства. 3 марта окружили Брянск. Навстречу им выступило пятитысячное царское войско, но лисовчики, словно молния, обрушились на врага и разбили его в пух и прах. 23 августа был осажден Орел. 1 сентября пламя охватило Белев в Тульской области. В ноябре, расправившись с очередным отрядом, посланным против них, лисовчики предали огню Торжок. Лишь в начале 1616 года они вернулись к Смоленску. Их поход сопровождался немыслимой жестокостью, о которой даже упоминать не хочется.
Во время этого яростного рейда для поимки лихих воинов Лисовского был послан отряд под началом Дмитрия Михайловича Пожарского, чье имя мы произносим с уважением и почтением. Воистину, человек несгибаемой воли! Под его началом стояли 690 дворян, стрельцов и наемников, а также 1200 казаков. И вновь казачья вольница проявила свою шаткую верность. Пятнадцать казаков из отряда Афанасия Кума, во главе с ним самим, соблазнившихся лихой жизнью лисовчиков, бежало из отряда Пожарского. Вскоре к ним присоединились еще сотни, и разбой начался с новой силой. Был убит верейский воевода Загряжский, а сколько сел было разграблено и сожжено – не счесть. Пожарскому самому пришлось заняться поимкой мятежников. Кума схватили в октябре 1615 года. На допросе выяснилось, что он не совсем прирожденный казак, а скорее «оказачившийся». До этого он был крестьянином, а брат его нес службу священника.
Тем не менее, Дмитрий Михайлович, с упорством, продолжал преследование Лисовского, и удача в этой погоне была столь же переменчива, как и нрав степного ветра. Под Орлом едва не разразилась трагедия. Головной отряд Пожарского, ведомый Иваном Пушкиным, был внезапно атакован лисовчиками. Под яростным натиском врага Пушкин вынужден был отступить, но в этот критический момент подоспели основные силы Пожарского и отряд под командованием Степана Исленьева. Однако стремительный натиск лисовчиков заставил дрогнуть отряды Пушкина и Исленьева. Пожарский остался один на один с врагом. Сеча была беспощадной, кровь лилась рекой, и в итоге Дмитрий Михайлович приказал возвести гуляй-город – передвижное укрепление из сцепленных телег, ставшее щитом для его измученных воинов. Лисовский, сдержанный этой неожиданной преградой, отошел и расположился в двух верстах от лагеря Пожарского. Соратники уговаривали князя отступить, но Пожарский, преисполненный решимости, решил стоять насмерть. К счастью, к этому времени отряды Пушкина и Исленьева сумели перестроиться и вновь обрести боевой дух. Лисовский, видя, что удача отвернулась от него, бежал. Пожарский бросился в погоню, но тяжкая болезнь скосила его, вынудив отказаться от командования. Так Лисовский выскользнул из его рук, но ненадолго. 11 октября 1616 года смерть настигла его. Причина осталась неизвестной, но, вероятно, сердце воеводы не выдержало бремени бесконечных сражений и лишений.
Но даже после его смерти лисовчики не исчезли, словно злые духи, выпущенные на волю Смутой. Они продолжали грабить русские города и села, а в 1618 году примкнули к войскам королевича Владислава, осаждавшим Москву. Впоследствии они нашли себе применение в Тридцатилетней войне и войнах с Османской империей.
Даже после окончания Смутного времени воровские казаки продолжали свою разбойничью деятельность, словно метастазы болезни, поразившей страну. В хрониках сохранились упоминания о столкновениях царских войск с казачьими шайками. Так, в 1659 году некий боярский сын Петр Климов бился с ними на Волге, и подобных донесений в XVII веке было немало. Чем дальше от центральной власти, тем вольготнее чувствовали себя разбойники.
Но на этом мы прервем рассказ о воровских казаках. Цель этой книги – проследить генезис и эволюцию криминального мира в России, а не посвятить себя исключительно этой пестрой, но все же второстепенной теме. Иначе нам пришлось бы подробно описывать и восстание Ивана Болотникова, и бунт Степана Разина, что увело бы нас далеко в сторону от главного замысла. Остается лишь добавить, что в казачьей среде сложился свой особый язык – арго, наполненный условными выражениями и словами, понятными лишь посвященным. Возможно, именно он послужил одним из источников для формирования будущей "фени" – языка преступного мира. Хотя основой, безусловно, стал "офенский" язык владимирских торговцев-офеней. Так вот, голландский купец Исаак Масса, проведший в России с 1601 по 1635 годы, упоминает о существовании у казаков особого языка, который он называет "отверница", и который они используют для тайного общения между собой. Но никаких более подробных данных о данном арго нет.
Криминал сельского “мира”
В этой главе мы обратим взор читателя к сельскому миру, сплетенному с нитями криминала. Ранее мы уже упоминали о банде из села Белого, возглавляемой священником – дело, прогремевшее в свое время. Но эта история, при всей своей яркости, являет нам лишь внешний лик разбойников, коими в большинстве своем были крестьяне. Здесь же мы попытаемся углубиться в суть, осветить внутренние взаимоотношения, связывавшие разбойников и местных жителей. Далее в тексте мы обратимся к укладу крестьян юга России – наглядной иллюстрации взаимоотношений с властью и помещиками, формировавшихся под гнётом набегов, неурожаев и прочих бед.
Чтобы полнее раскрыть тему, необходимо обозначить некоторые черты характера крестьянской общины того времени. Сердцем сельского "мира" юга России были помещики-"однодворцы", составлявшие около 80% населения этих регионов. Это были землевладельцы, не имевшие в собственности крестьянских дворов, либо владевшие лишь одним-двумя хозяйствами. Суровые условия жизни, постоянная угроза набегов заставляли их вести общинное хозяйство, объединять усилия для обороны. По сути, эти помещики жили хуторами. В условиях перманентной опасности жители села сами заботились об укреплении своих жилищ, не надеясь на спасение в ближайшем городе. Долгий отрыв от земли грозил голодом. Поэтому, помимо возведения защитных сооружений, жители деревень часто строили в лесах "времянки" – укрытия, куда можно было бежать при нападении врага. Рядом с этими убежищами разбивали огороды и создавали запасы продовольствия. Внешняя угроза сплачивала сельскую общину, укрепляя понимание того, что защита, порядок и самоорганизация – бремя, ложащееся на плечи "мира". Воеводы в городах не всегда могли оказать своевременную военную помощь. Воевода Лебедяни даже жаловался, что крестьяне не ищут спасения в городе, отвечая его посланникам: "В осаду мы не пойдем, у нас свой острожек".
И здесь мы переходим к примерам разбойничьих дел, совершавшихся с участием крестьянской общины или с её ведома. Летом 1638 года в деревне Ситное Воронежского уезда на берегу реки были обнаружены два трупа. Прибывший на место воевода М.А. Вельяминов начал расследование. Расспросы выяснили, что убитые – отец и сын, крестьяне, направлявшиеся к казакам за лошадьми. К убийству оказались причастны практически все мужчины села. Отца и сына пригласили на застолье, где и зарезали. По версии жителей, во время пира один из гостей начал приставать к жене хозяина дома, вспыхнула ссора, переросшая в потасовку, в которой оба гостя и были убиты. Сельчане, несмотря на очевидные улики, отчаянно выгораживали виновных. Раскрытию помог случай. Временно живший в деревне мальчик-пастух рассказал, что истинной целью убийства были деньги, которые убитые собирались потратить на покупку лошадей. Добычей убийц стали 70 рублей. В итоге никто не понес серьезного наказания, ведь убитые были пришлыми, а за своих сельский круг стоял горой и не давал показаний.
Это только один из примеров подобного поведения сельского круга. Например, если выносился приговор конокраду, то били его до смерти практически все, чтобы нельзя было вычленить одного убийцу- своеобразная мера защиты крестьян от преследования по закону. Так сохранилась информация, о немного странной для нашего восприятия, расправе над конокрадом. Схватив преступника, группа мужчин стала забивать его ногами. Тот оказался достаточно крепким мужчиной и после получаса физической расправы, крестьяне устали и решили передохнуть, естественно, не без участия крепких напитков. Собрали на стол и стали распивать. Побитый конокрад также попросил присоединиться к попойке. Крестьяне вспомнили, что конокрад хоть и преступник, но все же тоже христианин и налили ему несколько стопок. После чего так и забили до смерти.
В апреле 1678 года в селе Гремячье Воронежского уезда местные жители попытались избить и ограбить двух стрельцов. В данной попытке участвовала часть села во главе с помещиком Данилой Черным. Стрельцы смогли отбиться и забраться на колокольню местной церкви, после чего принялись звонить в колокол. Данный сигнал обычно служил сигналом бедствия, поэтому сбежались все жители села. Но увидев, что произошло, не стали чинить препятствия соседям и разошлись. Сами стрельцы сдались нападавшим, их связали до утра, а потом на рассвете они были отпущены восвояси.
Данилу Черного вызвали на суд в Воронеж. Держался он уверенно, поведал историю о том, как стрельцы, дескать, позарились на его добро, да были схвачены и прощены за раскаяние. Опросили крестьян – все как один подтвердили слова барина. И, несмотря на свидетельства проезжих людей, видевших избитых стрельцов, ищущих спасения в церковном звоне, поверили Черному, оставили его злодеяние безнаказанным. Словно стена, стояла община за своего.
Интересным случаем являются грабежи, которые осуществляли жители деревни Малиновая, все того же Воронежского уезда. Всего в преступной деятельности участвовало около десяти человек, но об их деятельности знали все жители. Грабили проезжающих по Данковской дороге, вооружившись копьями и бердышами. Что удивительно, данные грабители отличались некой гуманностью, т.к. своих жертв старались не бить, а запугать. Смертельных случаев не было, старались даже не калечить. Попались они почти случайно, когда попытались ограбить проходивших мимо жителей соседнего села Курино. Началась драка, на шум которой сбежались жители обеих деревень. В данном случае при столкновении общин, виновные все же были наказаны.

