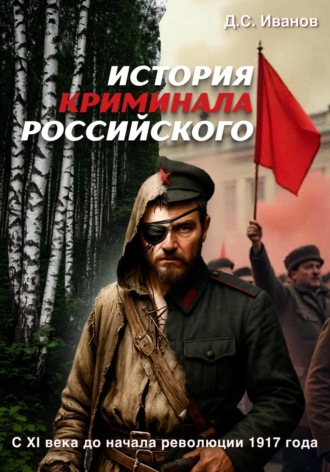
Полная версия
История Криминала Российского
2. Иная версия ведет к восточным корням. Кудеяр – сын Алау, вельможи при хане Джанибеке. Имя его, «Xudāyār», звучит как мольба: «возлюбленный Богом».
3.Есть и легенда, связывающая его с Жигмондом Баторием. Сын, восставший против отца, бежал к казакам на Днепр, а затем поступил на службу к русскому царю, став опричником Грозного, и его настоящее имя – князь Габор-Георгий (в русском варианте Сигизмундович).
4. Иная версия состоит в том, что Кудеяр – предатель Тишенков, указавший Девлету Гирею путь к Москве через Оку. Имя, которое действительно встречается в документах.
Сколько версий, столько и лиц у этого разбойника. Кудеяр – не просто имя, а собирательный образ, тень, живущая в народной памяти. В каждой области был свой Кудеяр, свой лихой атаман, чьи подвиги обрастали легендами.
Но отличает его от прочих не только удаль молодецкая, но и колдовская сила. Кудесник, чародей, которому подвластны тайные знания, что позволяют ему безнаказанно творить бесчинства и уходить от царских карателей. Говорят, что сотню стрельцов он мог обратить в прах одним лишь словом.
Смерть его, как и жизнь, окутана мраком колдовства. Окружили казаки его крепость, некуда бежать атаману. Тогда, собрав свои сокровища, закопал он их в землю, а сторожем поставил коня, что в огне окаменел и до сих пор бдит над сокровищами Кудеяра.
По другой легенде, что пересказал Некрасов , Кудеяр в конце дней раскаялся в грехах своих и, молясь неустанно, получил от Бога повеление – тем же ножом, которым лил кровь, срубить огромный дуб. Годами рубил Кудеяр дерево, да славил Бога. И вот, однажды: «Глянул – и пана Глуховского Видит на борзом коне, Пана богатого, знатного, Первого в той стороне. Много жестокого, страшного Старец о пане слыхал И в поучение грешнику Тайну свою рассказал.
Пан усмехнулся: «Спасения Я уж не чаю давно, В мире я чту только женщину, Золото, честь и вино. Жить надо, старче, по-моему: Сколько холопов гублю, Мучу, пытаю и вешаю, А поглядел бы, как сплю!»
Не выдержал Кудеяр, гнев закипел в его сердце черной смолой. Ринулся он с ножом на пана, и сталь вонзилась в плоть, обагрив землю кровью. В тот же миг с грохотом рухнул вековой дуб, словно небеса разверзлись, и душа атамана обрела долгожданное спасение.
Подобная история о раскаявшемся душегубе, искупающем грехи, часто встречается в легендах о разбойниках. Возможно, корни этой темы уходят к библейскому сказанию о злодее, первым вошедшем в рай. Отношение к разбойникам всегда было двойственным: грабители и убийцы, они порой делились добычей с неимущими, словно благородные Робин Гуды из народных преданий. Не обошла эта противоречивая слава и русских лихих людей, открывая простор для множества толкований.
Народная память хранит предания о разбойничьих шайках, державших в страхе реки и сухопутные дороги. Эти сообщества, возглавляемые атаманами, являли собой четко организованную структуру с "разделением труда": разведчики, наблюдатели, грабители. Но награбленное добро само по себе не имеет ценности, его необходимо сбыть. И раз грабежи совершаются регулярно, значит, существовали налаженные каналы сбыта.
Стоит обратить внимание и на отношение разбойников к местным жителям. Скорее всего, лихие люди не трогали крестьян, живших по соседству. Разбойникам нужны еда и питье, а значит, местное население служило связующим звеном, обменивая награбленное на провизию, тем самым, участвуя в процессе сбыта. Возможно, именно отсюда и берет начало положительное отношение к разбойникам среди крестьян. Русь издавна жила в бедности, а тут появлялись "свои" люди, грабившие ненавистных богачей и дававшие возможность заработать на сбыте награбленного. Полный консенсус и единение.
XV – XVII века
Формирование государственной системы борьбы с преступностью.
В XV веке ушла в прошлое эпоха раздробленности, уступая место рассвету единого централизованного государства. Древнерусские княжества одно за другим вливались под власть Московских князей. Для укрепления единства и порядка был создан новый свод законов – Судебник 1497 года, однако в контексте нашего повествования он не привносит принципиальных новшеств, изменились только наказания. Если вор попадался впервые, его ждали кнут и штраф, а при отсутствии средств – продажа в рабство. Второе прегрешение каралось смертью, и виновный расплачивался своим имуществом. Но это касалось лишь простого воровства. Если же кража сопровождалась убийством или святотатством, то, как гласит закон, «казнить его смертною казнью, а сумму иска заплатить из его имущества, а остаток его имущества (отдать) судье».
С восшествием на престол Ивана Грозного начинается эпоха преобразований и реформирований. Царю приходилось бороться с местничеством – укоренившейся системой назначения на должности по знатности рода – и с вольнодумством бояр, словно якоря, тормозящих движение государства вперед. Стремясь укрепить державу и свою власть, он начал масштабные реформы, среди которых особое место занимает губная реформа. Проведенная в 30-50-х годах XVI века, она привела к созданию новых органов следствия и суда – губных учреждений. Дворяне и дети боярские в каждом уезде, где вводилось губное управление, избирали из своей среды губных старост. Именно этим ответственным лицам вверялась борьба с преступностью. В помощники им назначались “целовальники” из других сословий – также избранные и приносившие клятву на кресте (целовавшие крест, отсюда и название должности) честно исполнять свои полицейские и судебные функции. Их основной задачей было выявление под присягой среди местного населения "ведомых" разбойников и татей, причем "ведомый" означало не только известных преступников, но и профессионалов своего дела. Они же проводили над ними, их соучастниками и сообщниками, включая укрывателей (т.н. становщиков) суд, а также осуществляли казни.
В обязанности губных учреждений входило и преследование злодеев, не только в своих пределах, но и в соседних землях, где для поимки лихих людей объединялись усилия с другими должностными лицами. Вводился контроль за всеми, кто прибывал в уезд, дабы выявить ведомых разбойников и татей.
Ущерб, причиненный пострадавшим, возмещался из имущества казненных и осужденных. Если же что-то оставалось, то шло в казну государеву. Во второй половине 40-х – середине 50-х годов губные учреждения распространились по всей Руси, за исключением лишь вновь приобретенных земель Казанского ханства, то есть среднего и нижнего Поволжья, а также части южных приграничных территорий.
В 1550 году вводится Судебник Ивана Грозного. Власть наместников и волостелей вновь ограничена, и дела о ведомых разбойниках всецело переходили под юрисдикцию губных старост. Отныне наместники не могли вершить суд без присутствия выборных людей. Статья 62 гласила: "А боярам и детем боярским, за которыми кормление с судом боярским, и им судити, а на суде у них быти дворскому и старосте и лучшим людем…Без дворского, старосты и целовальников наместникам и их тиунам суды не устраивать…взяток наместникам, их тиунам и их людям не брать".
Нельзя не упомянуть и о практике судебных поединков, что также нашла отражение в Судебнике. То был, по сути, "Божий суд". Когда следствие и суд заходили в тупик, применяли этот способ решения. На Руси его называли "полем". Но Судебник уже ограничивал круг участников: "Поле" не могло быть между "бойцом" и "небойцом" (женой, немощным, стариком, отроком, священником или монахом), разве что сам "небоец" того желал. В противном случае можно было выставить вместо себя "наймита"(наемника).
В 1552 году впервые упоминается Разбойный Приказ, хотя, скорее всего, он существовал уже с 1545 года. Система приказов, заложенная еще при Иване III, при Иоанне IV получила дальнейшее развитие. Приказы являли собой прообраз современных министерств. Отныне Разбойный Приказ ведал воровством, разбоями, убийствами, поджогами, колдовством и даже браконьерством, что также считалось воровством. В компетенции приказа находились и тюрьмы, и прочие места лишения свободы. Во главе приказа стоял судья, которого избирали из числа Боярской думы. Ему в помощь назначался второй судья, обычно более скромного происхождения. Ниже стояли дьяки, как правило, двое-трое, и подьячие. Низшие должности занимали приставы, сторожа и палачи. Все работники приказа набирались из людей, уже имевших опыт борьбы с преступностью. Так, для примера, упоминаемые в том же году, дьяк Григорий Теряев был выходцем из губных старост, а подьячий Дмитрий Шипулин – сыщиком.
Судьи осуществляли общее управление, дьяки кропотливо заведовали сонмом подьячих, а последние, словно закаленные в горниле правосудия, становились истинными профессионалами своего дела. В отличие от судей, чьи должности могли меняться, подьячие десятилетиями врастали корнями в свои места, досконально изучая хитросплетения законов и судебных прецедентов. Именно они поддерживали постоянную связь с подотчетным людом, неустанно разъезжая по уездам в сопровождении сыщиков, осуществляя контроль на местах.
Драгоценным источником сведений о деятельности Разбойного приказа служит “Уставная книга Разбойного приказа” 1555-1556 гг. Она являет нам разительные перемены: если Судебник 1550 г. опирался на архаичные методы доказательства, такие как судебные поединки и крестное целование, то “Уставная книга” вводит прогрессивный сыскной процесс, признание вины под пытками и “облихование” во время обыска. Быть может, взыскательный читатель возмутится: разве можно доверять показаниям, вырванным под пыткой? Но не стоит забывать, что наши предки были отнюдь не глупее нас, и пытки применялись не как средство слепого насилия, а как инструмент для выявления правды и отличие ее от лжи. Пытали не более трех раз, тщательно собирали свидетельские показания, досконально осматривали место преступления, скрупулезно фиксируя каждую деталь. Проверялись связи и контакты подозреваемых. И если в ходе первой пытки обнаруживались нестыковки, назначалась вторая, а при необходимости и третья. Выявить противоречия было вполне возможно. При обысках же учитывались голоса людей, знавших подозреваемого. Если мнения разделились: одни называли его добрым человеком, другие – лихим, то к подозреваемому применялась однократная пытка.
Впервые в этом документе встречаются упоминания о следственных действиях в отношении “укрывателей”. Рассматривается случай, когда приезжий вор нашел приют в доме посадского человека. Первым делом пойманного вора подвергали пыткам, дабы узнать, как давно он знаком с хозяином дома, сбывает ли через него краденые вещи и знал ли вообще хозяин, что приютил разбойника. Если вор признавался, что хозяин знал о его промысле, то уже посадский человек подвергался пыткам как соучастник. Если же вор клялся, что хозяин не подозревал о его разбойничьей натуре, то в доме проводился тщательный обыск. Впрочем, в обоих случаях, при обнаружении улик, “соучастнику” грозила жестокая кара – казнь или лишение свободы.
Статьи 7 и 8 “Уставной книги” регламентируют наказание для самих губных старост, если они пренебрегают своими обязанностями. Тех, кто был избран, но уклоняется от исполнения долга или отказывается принести присягу, надлежало отправить в Москву и заточить в тюрьму. После отбытия срока и оплаты “проезда” в столицу, они возвращались на свои места и должны были нести свою службу. Приведению губных старост к присяге – целованию креста – придавалось огромное значение. Считалось, что именно она обеспечит надлежащее исполнение обязанностей. Нарушение же крестного целования являлось тягчайшим преступлением.
Из того же драгоценного источника проливается свет на то, кем возводились и охранялись мрачные стены тюрем. В 9-й статье есть жалобы о том, как местные жители – боярские дети, приказчики, да и простые крестьяне – норовят увильнуть от участия в обысках, являясь лишь малой горсткой. А также, что уклоняются они строить тюрьмы, ставить охранников и назначать палачей. Таким образом мы видим, что многие обязанности, все еще лежат на плечах населения.
В 11 статье рассматривается вопрос, когда у истцов есть сомнения, что суд был верен. Тогда собиралась специальная губная комиссия с участием губных старост из соседних уездов. Причем присутствие старост “соседей” было обязательным. Если они не приезжали, на них налагался штраф.
Особый интерес вызывает 13-я статья, обличающая злоупотребления властью приставами. Приставы, в частности осуществляли охрану тюрем и были замечены в требовании взяток с сидельцев, а также кражах их вещей. И что примечательно, наказания кнутом, ни в коей мере, не унимали их преступных наклонностей. Битый кнутами пристав, возвращается на своё место и продолжал творить бесчинства. Предлагалась реформа: заменить приставов, избираемых из "тиуновых людей", на добрых людей по набору, с ежегодными перевыборами.
Смута стала суровым испытанием для разбойного приказа. Предвестником бед для страны явились неурожаи 1601-1603 годов, вызванные извержением вулкана Уайнапутина в далеком Перу. Пепел окутал небо, погрузив землю в малый ледниковый период. Помещики, не желая кормить крестьян, отпускали их на волю, но многие не давали вольную, чтобы после вернуть их себе. Огромные толпы холопов обратились к разбою и грабежам. Большое их количество устремилось в Москву, где Борис Годунов, частично раздавал деньги из казны нуждающимся. Но, по свидетельству Авраама Палицына (писатель и публицист, келарь Троице-Сергиевого монастыря), за два года в Москве от голода погибло до 120 тысяч душ.
Для борьбы с разбойниками правительство отправляло вооруженные экспедиции дворян-сыщиков в Тулу, Владимир, Волок Ламский, Вязьму, Можайск, Медынь, Ржев, Коломну, Рязань, Пронск. К разбойникам применяли жесточайшие меры. В инструкциях данных Бельскому- сыщику предписывалось «пытати крепкими пытками и огнем жечь», а самым отъявленным преступникам – ломать ноги.
Примером разгула преступности служит "Восстание Хлопка". Так в советской историографии окрестили массовый разгул преступности, порождённый голодом. Среди бесчисленных банд выделялся отряд атамана Хлопка Косолапа, по имени которого и назвали этот процесс. Отряд его отличался численностью, достигая 600 головорезов. Никаких политических требований они не выдвигали, крепостей и городов не захватывали. Лишь грабили ради пропитания, находя поддержку у крестьян, которые присоединялись к их рядам. Против них был послан отряд в сто стрельцов под командованием Ивана Фёдоровича Басманова, который попал в засаду, но всё же разбил нападавших. Сам Хлопок попал в плен и был казнён, а Басманов пал в битве.
Как вы понимаете в условиях смуты приказ был сильно ограничен в возможностях. Источники по нему практически пропадают. Осады Москвы, время когда регионы не подчиняются центральной власти, самозванцы и поддержка их населением. Скорее всего губные учреждения не подчинялись в это время Разбойному приказу. Начать полноценную работу приказ смог только после окончания смуты. Во главе него встал герой 2-го ополчения сам Дмитрий Михайлович Пожарский. И судя по оценкам современников работу свою он осуществлял очень хорошо. К тому же, за многие преступления, которые были осуществлены во время смуты, была объявлена амнистия, так что работы хоть немного, но поубавилось.
1649 год ознаменовался принятием Земским собором "Соборного уложения" – свода законов, ставшего краеугольным камнем правовой системы государства на долгие столетия, вплоть до 1832 года. Для нас особый интерес представляют главы 21, 5 и 4. Этот документ примечателен тем, что в нем впервые с такой скрупулезностью и ясностью разграничиваются разбойные дела, вводятся новые статьи, четко определяющие обязанности различных учреждений.
Глава 21, носящая грозное название "О розбойных и о татиных делех, а в ней 104 статьи", с первых же строк проводит четкое разделение. Отныне расследование разбойных злодеяний в Московском уезде и провинциях вверялось Разбойному приказу. Дела же, совершаемые в самом сердце столицы, отходили в ведение Земского двора – приказа, отвечавшего за порядок и безопасность Москвы. Губные старосты отныне находились в полном подчинении Разбойному приказу.
За убийство, сопряженное с ограблением, немедля следовала смертная казнь, равно как и за осквернение храмов грабежом. Впервые вводится практика ссылки разбойников. Если разбой не сопровождался лишением жизни и был первым прегрешением человека, ему отрезали правое ухо и заключали в темницу на три года. По истечении срока, предписывалось "послати в Украинные городы, где государь укажет, и велети ему в Украинных городех быти, в какой чин пригодится, и дать ему потомуже письмо". За такими людьми устанавливался строгий надзор. Если же губному старосте становилось известно о прибытии человека с подобным увечьем, но без сопроводительного письма, подозреваемого немедленно заключали под стражу и начинали сыск, запрашивая информацию в Разбойном приказе. Ибо такой человек мог оказаться беглым преступником, а за укрывательство беглых полагалось суровое наказание – штраф в размере 10 рублей, сумма по тем временам весьма значительная. С этого момента бесчисленное множество статей регламентировало количество пыток, порядок поиска преступников и их сообщников, процедуру опознания воров и даже работу с доносчиками. Все это являлось поистине революционным шагом в развитии борьбы с преступностью. Отныне, во имя укрепления государства, все законные средства розыска преступников были скрупулезно задокументированы.
Особый интерес представляют главы 4 и 5 Соборного уложения – своеобразное зеркало Смутного времени, впервые запечатлевшее в документах лики тех, кто наживался на хаосе: подделывателей печатей и фальшивомонетчиков. Глава 4, озаглавленная "О подпищикех, и которые печати подделывают", недвусмысленно заявляла: за подделку государевой грамоты или печати, равно как и за кражу оных, – смерть. И даже если злодеяние вскрывалось после кончины преступника, его родные и слуги, укрывшие улики, разделяли его участь.
5 глава “О денежных мастерех,которые учнут делати воровские денги” состоит всего из 2-х статей, которые достаточно кратки . В первой статье мы узнаем, что подделывали в основном медные и оловянные деньги. В серебро же добавляли олово или свинец. а за подобное деяние казнили способом “залити горло”, что это означает, думаем вы догадаетесь. Вторая статья сообщает нам о золотых и серебряных дел мастерах, которые ради прибыли могли также подмешивать в изделия медь, олово, либо свинец. За подобные преступления их при поимке били кнутом, либо отдавали пострадавшим от их действий.
6 ноября 1683 года Разбойный приказ был переименован в Сыскной, знаменуя собой усиление государственного контроля. По мере укрепления самодержавия приказы эволюционировали, готовясь стать министерствами. 2 ноября 1701 года Сыскной приказ был упразднен, фактически влившись в Московский судный приказ, поглотивший также Владимирский судный, Земский, Холопий приказы и Патриарший Разряд. Во главе этого мощного ведомства встал боярин А. П. Салтыков. Судьба Сыскного приказа – яркий пример консолидации и укрупнения государственного аппарата России.
Стоит отметить, что о деятельности Разбойного приказа нам известно до обидного мало. Скудные архивные данные, судебные дела и приказы, способные пролить свет на его работу, безвозвратно утрачены в вихре Смуты, в пламени пожаров и во время переездов.
Однако, есть один важный момент, на котором следует заострить внимание – первое документально зафиксированное упоминание об амнистии. Безусловно, подобные акты милосердия имели место и ранее, но именно в феврале 1598 года, в грамоте, написанной от имени вдовы царя Федора Иоанновича, царицы Александры Федоровны, в Яренск и Вымь, впервые появляется приказ об освобождении "татей и разбойников". При этом, самых отпетых злодеев предписывалось отпускать лишь на поруки, а тех, за кого никто не готов был поручиться, – с указанием места дальнейшего проживания.
Пример организованной банды крестьян XVI века
Агиография вновь приоткрывает завесу времени в вопросе криминала, на этот раз через "Житие Адриана Пошехонского". Текст, чье рождение пришлось на начало 70-х годов XVI века, дышит тревогой эпохи: автор взывает к святому о помощи "царю нашему" в одолении крымских татар и их предводителя, хана Девлет-Гирея – угроза, особенно остро ощущавшаяся в те годы.
История Адриана начинается в Корнилиево-Комельском монастыре, где он был послушником. Влекомый жаждой уединения и духовных свершений, он вместе с неким Бестужем покидает обитель, дабы основать новый монастырь в “пустынных” землях. К ним присоединяется и послушник Леонид. Троица устремляется в Пошехонские земли, где и закладывает фундамент новой обители. Имя Бестужа, словно растворяясь в тумане времени, вскоре исчезает со страниц летописи, больше не появляясь. Что с ним случилось неизвестно.
Сплетая воедино фантастические образы и суровую реальность, повествование рисует картину возведения монастыря, строительства келий и освоения диких земель. Однако в канву повествования внезапно врывается зловещая нота – рассказ о нападении жителей села “Белого” на монастырь, случившемся 5 марта 1550 года. Этот эпизод, озаглавленный "Страдание преподобного отца нашего игумена Адриана от зверообразных разбойник", представляет для нас особую ценность.
Во-первых, он был написан спустя всего 20 лет после описываемых событий, что позволяет предположить его создание, условно, "по горячим следам", с опорой на рассказы и воспоминания очевидцев. Во-вторых, он проливает свет на темные стороны жизни того времени, раскрывая нравы и преступные деяния эпохи.
Итак, в ночь с 5 на 6 марта 1550 года: "завистник же добродетелному житию, лукавый бес, злый демон вселися в Росийския агаряны, в малоумныя поселяны белилных сел злодеев, вооружает их на преподобнаго ков ковати, уложих себе в злой мысли своей разорити пустыню, и преподобнаго игумена со ученики погубити, и собранием преподобных своя домы исполнити". Нападавшие, вооруженные мечами и в доспехах, кто-то с рогатинами и копьями, обрушились на обитель. Игумен Адриан, тщетно пытавшийся укрыться от злодеев, был схвачен и подвергнут жестоким мучениям. Добычей разбойников оказался сосуд с 40 рублями. И даже мольбы о пощаде и обещания отпустить грехи не смогли смягчить их жестокие сердца. Игумена Адриана "под полоз санный устрояют. Оттоле преподобный Андреан мученик предаст дух свой в руце Божии". Ворвавшись в церковь, где в страхе затаились трое учеников Адриана, разбойники подвергли их пыткам, оборвав жизнь старца Давида. Не удовлетворившись пролитой кровью, они вынесли из монастыря воск, мед, книги, ларцы, платья и драгоценные сосуды. Тело же игумена, погрузив в сани, вывезли за пределы обители и бросили на дороге, словно ненужную вещь.
И вот, начинается самое захватывающее. Вернувшись в село, разбойники, обуянные жаждой хмельного веселья, принялись праздновать удачную добычу. Но один из них, Иван Матренин, утаил от товарищей драгоценный сосуд. Открыв его, он узрел, что святой Адриан, отдал им самое сокровенное – ларец, полный кистей, красок и ликов святых. В те времена, данные предметы стоили неплохих денег. Далее, неизвестно, что послужило причиной, может быть, Иван, украв у своих, подумал, что он может быть обнаружен. Но он, предстал перед собранием подельников и во всем признался. Возглавлял же эту шайку не кто иной, как приходской священник села Белое, церкви великомученика Георгия Страстотерпца, по прозвищу Косарь.
Грабеж церквей, увы, не был чем-то из ряда вон выходящим в летописи криминала. Но когда во главе злодейской ватаги стоит служитель алтаря – это повергает в оторопь. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что такие случаи не единичны в мировой истории. Вспомним хотя бы приснопамятную сицилийскую мафию, где некоторые семьи время от времени возглавлялись действующими священниками.
Однако, как гласит предание, все злодеи, узрев святыни, содрогнулись, почуяв недобрый знак. И оказались правы. "Такожде рече, слыша его сослужебник, рекомыи Баба, таковы Косаревы речи, и восмеяся Баба, глаголюще: «Безумен поп, не весть, где положити, восхоте разбоя творити, такожде и душ человеческих побивати, устроих себя от неправды богатство собирати и красти у сосед своих всякое орудие и от далных стран скот приводити". Если перевести на современный язык, то можно понять, что Баба, будучи сослужебником Косаря, увидел, что собрание разбойников проходило в церкви. Он подошел и подслушал их разговоры, после чего рассмеялся над своим сослуживцем:” «Безумный поп не знает, куда награбленное спрятать, а еще хочет разбойничать, убивать людей и обогащаться имуществом своих соседей»” Этот священнослужитель, по имени или прозвищу Баба, выдал разбойников сельчанам. Те, схватив Ивана Матренина, приволокли его к губным старостам Симеону и Иоанну с целовальниками. Не успел убийца опомниться, как его подвергли жестоким пыткам. И он, сломленный болью, выдал всех соучастников и указал место, где они бросили тело игумена Адриана. В итоге, все подельники были схвачены. Помимо мечей и копий, при обыске у них обнаружили самопалы, которые в житии именуются "огненным орудием".

