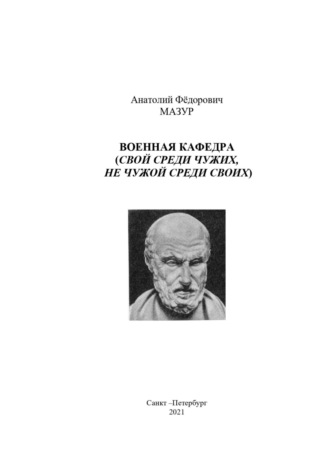
Полная версия
Военная кафедра академии

Анатолий Мазур
Военная кафедра академии
I. НАЧАЛО
.1.
ПРЕАМБУЛА ИЛИ КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
Позади 25 лет работы на военной кафедре! ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!!
Сколько пережито за эти годы! По одному из методов расчёта – это почти два преподавательских поколения вуза. Есть желание и есть что рассказать. Но в начале представляется целесообразным отступить ещё на половину указанного срока назад. И вот почему.
Ведь за плечами, на момент увольнения из Вооружённых Сил, около 40 лет военной службы! Правда, мне больше по душе не службы, а воинского труда или ещё точнее работы. Работа в подземных сооружениях, возле боеголовок стратегических многоступенчатых ракет в «подземных» ракетных войсках, на подводных и надводных кораблях. Перелёты и переезды через всю страну: от Камчатки до Куршской косы на Балтике, от Новой земли до Кушки, – с целью проверок медицинской службы армии, авиации и флота. Разработка с нуля и участие в испытаниях разработанных образцов военной и медицинской техники. Проектирование, разработка, подготовка и проведение различных видов занятий более чем с пятью тысячами обучаемых в аудиториях, классах, учебных центрах. Изнурительные тренировки и борьба на спортивных аренах от шахмат до офицерского многоборья и марафонов «Пушкин – Ленинград», «Дорога жизни» и др. Это тяжкий, а моментами и даже периодами с риском для жизни, труд и работа на износ.
Так совпало, что в начале моего военного пути, по «гениальному» решению Н.С. Хрущёва и его окружения было заявлено, что Советскому союзу нужны только ракеты. В связи с этим, в прямом и переносном смысле, начали резать в наших ВВС самолёты и на ВМФ – корабли и прикрывать как виды Вооружённых Сил авиацию и флот. Поэтому, мне, несмотря на успешное окончание Одесского аэроклуба, прохождения городских медицинской и мандатной отборочных комиссий, когда, в буквальном смысле слова, был уложен чемодан в дорогу, и осталось только получить в военкомате проездные документы, было объявлено: – набора в Ейское авиационное училище (куда меня направляли) в этом году не будет. После «глубокого» анализа и обсуждения с одноклассниками – кандидатами в лётчики, было принято решение податься в самые современные и загадочные в то время ракетные войска.
Тогда, положенные 25 лет службы в ВС после окончания ракетного командно-технического училища, казались безумно большим сроком. Но разве мог я тогда предположить какие изгибы судьбы и жизненные повороты ждут меня в течение не только 25, но и почти 40 лет службы в ВС? И начал я эти повороты в связи с не проходящей тягой в небо.
Прослужив, положенные 3 года после окончания училища, в стратегической ракетной дивизии, я понял, что мне, по-прежнему, очень хочется попасть в авиацию. Поступать в авиационное училище не позволял уже возраст. Поэтому решил пробиваться туда через … медицину, с тайной и наивной надеждой когда-то сесть и за штурвал самолёта. Этому способствовало ещё ряд обстоятельств тех лет: направленность и уровень советского общественного воспитания и герои того времени
С. Королёв, Ю. Гагарин, Н. Амосов с его произведениями «Мысли и сердце», «Записки из будущего» и, наконец, моя медицинская родословная.
Кто знает, с каким трудом создавался новый вид ВС – ракетные войска стратегического назначения, тот знает, что вырваться оттуда, да ещё в медицину было практически не возможно. В связи с указанными трудностями, я едва не демобилизовался в последнее хрущёвское сокращение ВС СССР. Однако, «на отлично» выставив «по вертикали и горизонтали» и направив все межконтинентальные ракеты при постановке нашего полка на боевое дежурство, в установленные сроки на указанные цели (через Северный полюс), я заслужил право на попытку поступления в Военно-медицинскую академию.
Это большое жизненное счастье, удача и честь поступить, учиться и окончить нашу славную Alma mater. Разумеется, это трудное счастье, требующее многолетней упорной работы. Ещё в годы учёбы в академии мне представилась возможность уйти в авиационную медицину, несмотря на то, что учился на военно-морском факультете. Но неожиданно судьба свела с людьми, фанатически увлечёнными своей клинической областью медицины – анестезиологией и реаниматологией: В.Н. Нефёдовым и В.И. Сипченко. Им обоим, а особенно за многолетнюю помощь, дружбу и сотрудничество с Василием Ивановичем, я по век обязан за школу не только по специальности, но и жизненную. Это резко повернуло, определило на много лет мои интересы и устремления и буквально засосало меня в эту область медицины, связанную, как я и по ныне считаю, с постоянным решением сложных «вводных и кроссвордов». Учёбу на старших курсах мне разрешили проходить по индивидуальному плану с «анестезиологическим уклоном», даже где-то в ущерб общей программе подготовки. Опыт и навыки в анестезиологических пособиях и реанимации, первые пробы в работе военно-научного общества слушателей, первые рефераты, печатные научные сообщения и статьи. Приобщение к флоту, подводным лодкам, военно-морской медицине. Любовь, женитьба, рождение сына и радость отцовства. Выпуск из академии, выпускной вечер в ресторане гостиницы «Ленинград», в кругу друзей однокурсников, учившихся в офицерских званиях. И неожиданное соседство по столикам с нашим начальником курса, отмечавшим это мероприятие в этот же вечер с одним из наших молодых однокурсников и его отцом за хорошее распределение сына, сразу на клиническую работу. Благодаря бескорыстной помощи А.З. Тухватулиной и В.П. Петленко, мне удалось сдать кандидатские минимумы по иностранному языку и философии, в ближайшие дни после получения диплома врача. На экзамене по философии опять неожиданный сюрприз в виде однокурсника, тоже пришедшего на экзамен, но ни разу не посещавшего соответствующие занятия и не сдававшего обязательные рефераты, но зато родственника начальника кафедры! Эх! То ли ещё будет впереди?
С позиций нынешних дней и возраста не заметно пролетели годы учёбы в академии.
Службу на Северном флоте в качестве начальника медицинской службы одного из учебных отрядов по подготовке радиоспециалистов флота, удалось, по мере возможности, совместить с дежурствами в госпитале и областной больнице и даже в отдельные месяцы с работой нештатным анестезиологом гарнизонного госпиталя г. Архангельска. К огромному сожалению, не удалось добиться разрешения командира отряда на обучение в интернатуре Северного Флота по анестезиологии, хотя была она буквально через забор от учебного отряда. К счастью, удалось так наладить работу медицинской службы отряда, что неожиданно, после того как мне удалось спасти ему жизнь и госпитализировать, командир дал добро на отправку моих документов на конкурс получения права сдачи экзаменов в адъюнктуру на кафедру Анестезиологии и реаниматологии ВМедА. И вот здесь жизнь опять делает очередной резкий зигзаг или поворот.
Известно, что восстановить истинную картину событий, происходящих энное количество лет назад, за редким исключением, не возможно. Есть на этот счёт интересный исторический анекдот.
Спрашивается: – Какой правильный ответ на вопрос: кто более повлиял на ход истории человечества А. Македонский, Б. Наполеон или И. Сталин?
Оказывается правильный ответ довольно неожиданный: больше повлияли историки, описывающие ход истории.
Или известные резкие расхождения в оценке татаро-монгольского ига на России таких серьёзных исследователей истории как В. Чивилихина и Л. Гумилёва. Или как относиться к большим сомнениям последнего в достоверности исторических событий, описываемых общепризнанным великим летописцем Руси Нестором, по которому не один век, как по камертону, сверялись основные исторические вехи страны? Поэтому, естественно, многое из того, что будет изложено ниже о пережитом мною, моей семьёй, близкими, сотрудниками, коллегами, академией и страной представляет собой субъективную оценку и мнение. Более того, допускаю, что в чём-то даже дискутабельно, в зависимости от того с какой точки зрения посмотреть на описываемые явления, события и личности.
В то же время, это видение одной из сторон, участвовавшей в описываемых жизненных событиях и коллизиях, располагавшей определённой информацией и имеющей своё мировоззрение, моральные и нравственные устои.
1.2. ВОПРЕКИ МНЕНИЮ НАЧАЛЬСТВА. ПОСТУПЛЕНИЕ В АДЪЮНКТУРУ.
В 70-е годы XX века на кафедру в вузе рекомендовали участвовать в конкурсе на соответствующие должности людям уже в какой-то степени известных в коллективе и зарекомендовавших себя в работе и научных исследованиях по данной специальности. Мне такие рекомендации на подготовку и участие во вступительных экзаменах в адъюнктуру были даны. После этого я с удвоенной энергией зарылся в литературу по программе вступительных экзаменов.
Наконец приходит долгожданный вызов из академии на экзамены. К этому времени в семье сложилась ситуация, требующая переезда её в полном составе в Ленинград. Вскоре ожидалось рождение второго ребёнка. Кроме того, подходило лето, и надо было вывозить бабушку (мою мать, жившую с нами) с внуком от Полярного круга в более южные и тёплые края. Поэтому вся семя дружно поехала «сдавать экзамены в адъюнктуру».
Приведенные обстоятельства, взаимно переплетаясь, окажут в ближайшее время влияние на решение вечных вопросов: «быть или не быть?»; «как быть дальше?» и т.п.
А пока по прибытии на кафедру выясняется, что у меня появился конкурент на место в адъюнктуре.
– Отлично! Даже будет интереснее!– подумал я.
Вообще конкурс на таких экзаменах нормальное явление. И, наверное, всегда имели место свои особенности и причуды. На сей раз, они были связаны с тем, что моим соперником оказался сын одного из бывших начальников учебного отдела академии. Шесть лет мы учились на параллельных курсах разных факультетов. Он на шесть лет младше меня. На старших курсах он занимался в научном слушательском кружке на кафедре эпидемиалогии, я – на анестезиологии. И вдруг неожиданно наши пути пересеклись. И уже мне неофициально намекают на то, что шансы мои резко упали и очень не значительны.
– И что отсюда вытекает? Быть или не быть? Отступить или делать попытку в борьбе за место под солнцем?
В то время говорили так красиво, возвышенно, в отличие от того, как говорят сейчас: найти свою нишу …(как рак отшельник).
Но тут же возник вопрос: а куда отступить? У меня, что есть запасной аэродром? Увы да ах. Следовательно, несмотря ни на что, остаётся одно – делать попытку, бороться!
После первого экзамена по специальности «Анестезиология и реаниматология», на котором мы оба получили по «отлично» у меня появилась маленькая надежда. Эту надежду усилило рождение в этот день нашей доченьки Иришеньки. То ли я сделал подарок в виде «пятёрки» жене Ларисе к рождению дочери, то ли она сделала мне подарок за мои успехи? Это событие, конечно, меня вдохновило, но и повысило ответственность в принятии решений в усложнявшейся ситуации по поводу учёбы в адъюнктуре.
Во все времена, в любом обществе существуют определённые нормы нравственности, морали, поведения. При этом, соблюдаются определённые «правила игры», требующие в большей или меньшей степени (кто как) отступлений от приведенных категорий норм. О каких правилах идёт речь и как они соблюдались можно проследить на примере второго экзамена – «Военно-полевая хирургия».
Экзамен проводился на следующий день после Великого праздника советского народа – ДНЯ ПОБЕДЫ.
Каждый из нас, в своих семьях, в каждой из которых были свои герои и/или жертвы войны, отмечали этот «праздник со слезами на глазах», как поётся в песне и как могли в этот день. Конечно, не сравнено шире отмечался он участниками Великой Отечественной войны. Естественно, что это в большей степени сказалось на состоянии ветеранов, которые принимали экзамен у нас. Экзамен по Военно – полевой хирургии сдавали около 10 человек – кандидаты в адъюнкты на разные кафедры хирургического профиля. Всё шло обычным порядком. Очередные четыре человека, в том числе автор этих строк, взявши билеты, сидели за столами и готовились к ответу (собеседованию). У классной доски за двумя сдвинутыми столами сидят члены комиссии. В класс входит мой соперник как очередной экзаменующийся, с тем чтобы выбрать билет и также сесть готовиться. Только он переступил порог как один из членов комиссии, начальник одной из кафедр Александр Николаевич громко восклицает:
– А, Игорёк, заходи, заходи!
Рядом сидящий другой член комиссии, начальник другой кафедры, Иван Степанович толкает его в бок и тихо говорит:
– Ты что вчера перебрал или плохо закусывал?
– А что такое? Я его знаю ещё с такого возраста! – ответил тот и показал над полом условно около одного метра.
Поставьте себя на моё место. В каком состоянии и с каким настроением вы бы участвовали в собеседовании (сдаче экзамена) после такой преамбулы? Что больше повлияло на выставление оценок ему и мне: показанные знания, или знакомство? Однако, после этого экзамена сумма баллов у меня оказалась на единицу меньше чем у моего соперника. И опять стал вопрос: не тратьтэ кумэ сылы, спускайтэся на дно? И здесь я совершил поступок, за который стыдно и по сей день, хотя он ничего не мог изменить и не изменил.
– Но если со мной так поступают, значит я тоже имею право вести себя аналогичным образом – рассуждал я.
Предстоял ещё экзамен по иностранному языку. Айша Зиганшевна Тухватулина, которая консультировала меня два года назад перед сдачей кандидатского минимума по иностранному языку, с которой я мог посоветоваться и просить помощи, на кафедре уже не работала. После долгих сомнений и терзаний предстал я пред ясные очи заведующей кафедрой иностранных языков. Не знаю были поняты или нет тогда мои не внятные бормотания и рассуждения о том, что со мной поступили не честно на предыдущем экзамене, что если я теперь не получу на предстоящем испытании хотя бы на один балл больше моего соперника то теряю всякие шансы на поступление в адъюнктуру? Когда я много раз, спустя десятки лет, думал об этом то понял, что, если бы обратились ко мне с подобной просьбой, получили бы аналогичный отрицательный ответ. Таким образом, уровень знаний иностранного языка каждого из нас оценен был одинаково. В результате конкурс я проиграл, хотя и набрал 14 из 15 баллов.
И опять я стал на распутье. В данном случае: возвращаться в учебный отряд Северного флота и надеяться, что представится возможность сделать повторную попытку стать врачом анестезиологом или не упустить представившуюся возможность в академии стать врачом близкого профиля, с надеждой возвратиться в анестезиологию.
К тому времени я уже достаточно был знаком с системой анестезиологического обеспечения в медицинской службе Северного флота. И представлял мои мизерные возможности попасть в эту систему, не окончив даже интернатуры. Если бы я ещё знал тогда, что мой соперник тоже не будет взят на кафедру анестезиологии адъюнктом! Причиной тому, говорят, была старая вражда его отца с тогдашним начальником Главного военно-медицинского управления МО СССР (ГВМУ МО СССР). Увы, это стало известно лишь несколько лет спустя. А тогда… Тогда, вкусив «прелесть» 3-х лет службы и жизни в Брянских лесах в ракетных войсках после училища и 2-х лет работы начальником медицинской службы учебного отряда, очень хотелось уже определиться и стать врачом – специалистом. Да и пора было – шёл уже 32 год жизни. И потом, хотя сынок у нас был уже «большой» – почти 3 года, то дочурке шёл всего первый месяц жизни! Ясно, что возвращаться семьёй в таком составе на Север – очень нежелательный вариант.
Поэтому мною были перебраны доступные варианты и приложены все возможные усилия. Наверное, к счастью, совпало, что командование академии было обеспокоено тем, что в адъюнктуру было набрано всего 6 вместо требуемых 20-25 человек. Командование академии послало запросы начальнику ГВМУ МО и медицинской службе Северного флота о разрешении мне обучаться на факультете усовершенствования врачей по анестезиологии. Безрезультатно! Аналогичный запрос о разрешении мне обучаться в адъюнктуре по хирургии. Эффект тот же. А время-то летит, и пора уже возвращаться к месту службы в Архангельск.
Кроме всего сказанного, это были времена, когда академию возглавлял такой человек и специалист, который управлял ею, а не правил как его последователи после Г.М. Яковлева. Он знал нужды и состояние областей и направлений научной и практической медицины, да, пожалуй, и каждой кафедры академии. Он следил за кадровой политикой и комплектованием подразделений.
Это был Николай Геннадьевич Иванов! Его кадровую политику, естественно, проводили в жизнь его заместители и начальник отдела кадров Николай Матвеевич Шуленин.
Очевидно поэтому, руководством академии было предложено мне пойти в адъюнктуру на кафедру, на первый взгляд очень далёкую от анестезиологии. Первое желание (может и верное ?) было отказаться. Ведь я эту кафедру практически не помнил с периода учёбы в академии. Но мне рекомендовали сначала сходить, посмотреть, поговорить, представиться и тогда сказать своё решение.
Кафедра « Медицинского оснащения и техники» (МОТ) находилась в новом, высотном по тем временам здании учебно-лабораторного корпуса академии у Финляндского вокзала. Начальник кафедры оказался в отпуске. Поэтому я представился его заместителю И. Н. Ждановичу. Немаловажным обстоятельством для меня явилось то, что он тоже был врач, оканчивал в своё время нашу академию, участник Великой Отечественной войны. Главное в нашей беседе прозвучало то, что он не рекомендовал мне идти на кафедру по ряду причин и главное потому, что начальник кафедры был против того, чтобы на кафедре работали врачи. Что это такое, во что это выливается и к чему это ведёт, показали дальнейшие жизненные коллизии.
У меня, по вышеприведенным причинам, практически не было выбора. Брошенные на чашу весов «За» вышеперечисленные обстоятельства перетянули чашу с неясными мне тогда доводами «Против». Не мог я тогда предполагать, что очень скоро избранный путь не пожелал бы врагу своему. И не смотря на такое мнение моего возможного начальника, я согласился идти адъюнктом на эту кафедру, написал рапорт и уехал к месту службы.
И потянулись долгие месяцы неопределённости и ожидания. Каким образом, и в каких инстанциях решалась моя судьба можно только предполагать.
Долго ли коротко ли, но в один прекрасный августовский день в учебный отряд поступила выписка из приказа министра обороны СССР о зачислении на учёбу в адъюнктуру ВМедА им. С.М. Кирова меня – капитана медицинской службы Яковенко Антона. Обход с бегунком, сдача дел и должности начальника медицинской службы выпускнику нашей академии, прощание с коллективом медицинской службы и учебного отряда. Сборы домашнего скарба, благо нажито немного и всё вошло в один контейнер. Спасибо за всё хорошее, до свидания, а может быть и прощай, Архангельск!
Здравствуй, вновь, Питер!!!
Ситуация позволяла отдохнуть и побыть с семьёй хотя бы несколько дней. Можно было, но … . Но я очень спешил скорее попасть на кафедру. Спешил … И вот переступаю порог начальника кафедры. Представляюсь ему как положено. Вместо приветствия и знакомства, с гримасой на лице, он рекомендует мне вернуться на кафедру анестезиологии, куда я сдавал экзамены в адъюнктуру. Да я бы, как говорится, с дорогой душой! Прикладываю все усилия, чтобы выполнить эту рекомендацию … Это сегодня я уже достаточно ориентируюсь в академической структуре. Хотя и здесь всё течёт, всё меняется. А тогда пришлось набраться терпения и искать выход. Было большое желание скорее определиться и начать работать. Но где? На кафедре анестезиологии хотели меня взять на вакантное место адъюнкта. Ведь они остались без адъюнкта, из двух кандидатов не взяли ни одного! В верхах шли разговоры, переговоры, согласования … Если перефразировать известный анекдот то получалось, что вроде по отдельности все «за», но как соберутся вместе все «против». Только спустя много лет стало известно, что начальник академии тогда стоял твёрдо на своей позиции: на кафедре « Медицинского оснащения и техники» должен быть врач, тем более имеющий и техническое образование. И хотя мне довелось прожить нелёгкую жизнь на этой кафедре, спустя более четверти века я с ним полностью согласен. А тогда в руководстве академии мне было сказано:
– Работайте спокойно, как следует, с соблюдением воинской, партийной и трудовой дисциплины.
Сказать легко, а вот жить и работать спокойно при таком отношении неимоверно сложно, а зачастую и не возможно. Наверное, разговор командования был и с другой стороной – с начальником кафедры? Хотя говорить о доброжелательном отношении не приходилось. Начальник кафедры также стоял на своей позиции: так или иначе добиться, чтобы врачей с кафедры убрать. И не равная борьба продолжалась, принимая разные, порой уродливые, формы всю мою учёбу в адъюнктуре и после неё, вплоть до его ухода с кафедры по болезни. Но, тем не менее, был решён главный тогда для меня вопрос: где трудиться?
Тогда я ещё раз убедился в справедливости утверждения о том, что нет лишних знаний и умений. Рано или поздно они пригодятся, да ещё не однократно. Знания по так называемым общественным наукам (в то время это философия, психология, политэкономия и др.) помогли разобраться в хитросплетениях обстоятельств, событий и фактов, поступках людей разных времён. Эти науки мною изучались всегда с большим вниманием, интересом и увлечением. Думаю, это позволило выработать мировоззрение и жизненное кредо, уверенность в том, что всегда победит правда, добро и справедливость, что, прежде всего интересы дела, а потом всё остальное. Отсюда устойчивость во всяких испытаниях и передрягах, упорное продвижение к намеченной цели. С другой стороны, если пользоваться категориями из названных научных областей, то надо сказать, что нет ничего в нашем мире абсолютного.
В коллективе кафедры МОТ, как всегда, были очень разные люди: от «держащих нос по ветру» и выполнявших всё, что угодно начальству, до людей самостоятельных, насколько это возможно в вооружённых силах, порядочных, настоящих специалистов, педагогов и настоящих учённых. Да и складывающаяся ситуация на кафедре была не столь уникальная. Сколько угодно кафедр, научных коллективов и в академии и в других вузах, где трудятся специалисты разного профиля, направлений и специальностей. И естественно, что в зависимости от того, какого профиля специалист (на протяжении десятилетий, веков они меняются) возглавляет кафедру (коллектив) – меняются направления и акценты деятельности кафедры. И уж конечно больше внимания и продвижения по службе имеют специалисты профиля, к которому принадлежит лицо, возглавляющее коллектив. Находясь в таком коллективе, не сразу, но со временем это можно понять и даже согласиться. Но при соблюдении главного условия: не должно страдать дело, ради которого создан и существует коллектив! А далее, уже в зависимости от личностных качеств человека, стоящего во главе коллектива, деловая и кадровая политика ведётся честно, открыто и благородно или подло, с использованием возможных и не возможных, чаще не порядочных способов и средств, келейно, по двойным и более стандартам, применяемым к разным членам коллектива. Спустя много лет, мне кажется, что этот «аптекарский король» имел потребность и не упускал возможности унизить любого врача, особенно младшего по положению и званию, оскорбить его достоинство, растоптать его честь, спровоцировать его на дурной поступок. И если ему это удавалось, он испытывал огромное наслаждение. Моё счастье, что я интуитивно это понял довольно быстро и сумел, достаточно успешно, противостоять.
Как это выглядит в реальной жизни, может быть не безынтересно, а кому-то в чём-то, возможно и поучительно, проследить на примере одной из ниже излагаемой вариации на данную тему.
1.3.«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, НО НЕ ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
ИЛИ АДЪЮНКТУРА.
Может не каждому из читателей известно, что такое адъюнктура?
Адъюнктура, если кратко– это военная аспирантура. Если более развёрнуто – это один из видов (основной) подготовки научно-педагогических кадров, или проще и точнее подготовка преподавательского состава для высших военно-учебных заведений. Протекает она или этот период жизни очень по разному. Это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, зависит от самого адъюнкта и от тех, кто стоит над ним на кафедре и в вузе, от того насколько серьёзные задачи он поставил сам перед собой и поставлены перед ним научным руководителем и командованием ввуза. В значительной степени это зависит то того, в каком режиме трудится адъюнкт. Условия его работы могут быть от режима максимального благоприятствования до условий, когда адъюнкту приходится идти «сквозь револьверный лай». На нашей кафедре имели место оба эти крайние варианты.

