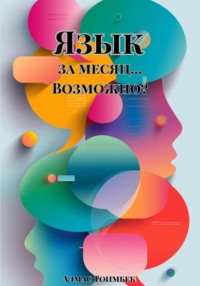Полная версия
Крик последней истины
Мне вспомнилась история из моего времени, что случилась с китайским биофизиком Хэ Цзянкуем. Он помог паре, страдавшей от болезней, зачать первых в мире детей с искусственно измененными генами. Эти дети были здоровы и, как предполагалось, более устойчивы к вирусу иммунодефицита человека. За свои исследования Хэ был приговорен к трем годам лишения свободы. Возникает вопрос: сколько подобных генетически модифицированных детей могли появиться на свет к тому времени благодаря усилиям других ученых-биологов? Разве реально было проконтролировать работу каждого исследователя, чтобы исключить соблазн улучшить чью-либо жизнь вмешательством в ночной тиши лаборатории?
Вполне возможно, что по всему земному шару уже существовали клоны, воспитываемые втайне своими же создателями. С другой стороны, кажется несправедливым, что тысячи, а то и миллионы людей продолжали страдать от заболеваний, поскольку медицинский консенсус боялся непредвиденных изменений, связанных с генной инженерией. Опыт запрета алкоголя, проституции и марихуаны показывает, что запреты не решают проблему, а лишь выталкивают ее в тень. Почему мы считали, что случайная трансформация, вызванная модификацией генов, может быть опаснее, чем мутации от антибиотиков или других веществ, которые мы регулярно потребляли? Сигареты, например, вызывают рак – это смертельная мутация, что подавалась нам на блюдечке уже при жизни, не говоря о том, как она проявила бы себя через два или три поколения.
Таким образом, множество генетических изменений для будущих поколений уже существовали на поколения вперед из-за химического и промышленного воздействия, загрязнения отходами и излучением. Мне интересно, было ли это реалией, неизбежность столкнуться с которой знающие люди моего времени трезво осознавали? В этом контексте, например, я помню подозрения в адрес фармацевтических компаний во время и после пандемии, которые под ширмой заботы о безопасности скрывали истинную цель своей деятельности – увеличение капитала. Тогда это звучит как безответственность – вызывать столь масштабные изменения в нашем организме, с которыми естественный ход эволюции не в силах справиться, и при этом не предпринимать меры, чтобы хотя бы компенсировать те воздействия, на которые мы сами себя обрекаем.
Становление
– Вставай, соня!
Я открываю заспанные веки. На фоне потолочного освещения силуэт Алины сверкал изяществом, и я невольно протер глаза. Свет, вплетенный в ее каштановые волосы, переливался различными оттенками, создавая эффект фонтанных брызг. “Что, ангела увидел?” – улыбаясь искрящимися глазами, спросила она. “И здесь эти женские хитрости”, – подумал я, усаживаясь и спуская ноги на пол. “Ну, не ленись, пожалуйста, – обиженно прошептала она, видя как я зеваю, – я тебе вот, одежду выбрала”. И она вручила мне небольшую тканевую сумку, в которой я обнаружил обувь, штаны и рубашку с длинным рукавом. “Ты пока примеряй, а я скажу доктору, что мы готовы уходить”, – бросила она почти уже в дверях.
Одеться удалось без особых проблем, поскольку, кроме магнитных застежек, радикальных новшеств я не заметил. Мне показалось, что в этой одежде будет жарко, и я подошел к окну оценить погоду снаружи. Небо было затянуто сплошной светло-серой полосой облаков, отражающихся в небольших лужах внизу на земле. Края бордюров местами выглядели как пропасть в зазеркалье, в которой рябью отражались деревья, ищущие встречи с солнечными лучами.
– Там романтика, дождик ночью прошелся.
– Опять ты меня разбудила, – вздрогнув, буркнул я.
– Я была бы рада, если бы это было так. Но, надеюсь, сегодняшний день приблизит твое пробуждение. Идем, снаружи смотреть на мир интереснее.
Я последовал за ней мимо других закрытых палат, минуя пару стекляных коридоров, которые вывели нас на террасу. Нам даже не пришлось спускаться вниз, вопреки моему ожиданию, ведь с моего окна высота была в пару-тройку этажей. Открывшаяся раздвижная дверь впустила в здание глоток воздуха, объявшего нас прохладой, но спустя пару шагов ветра практически не ощущалось. Впереди открывался потрясающий вид на город, уходящий немного вниз, поскольку, как оказалось, здание госпиталя находилось на небольшом возвышении. Терраса была полна цветущей растительности, уходящей вдаль словно стебель винограда, который разросся по всему городу капиллярной сетью. Сосны, будто подпирающие здание с которого мы вышли, составляли начало этой артерии, по течению которой мы и направились вниз. Спуск не требовал внимания: даже ступени встречались достаточно редко, словно стесняясь прервать фокус мыслей случайного визитера.
“Тебе нравилась жизнь тогда, в твое время?” – она нарушила молчание, когда мы достигли пологого участка, который скрыл за деревьями городскую панораму, включая сосны в начале нашего пути. “Думаю да. В общем я жил вполне хорошо. Но когда стремишься вырасти еще выше, то не даешь себе расслабиться, потому что… эмм…” – я сделал паузу, на мгновение задумавшись. С наслаждением вдыхаю влажный утренний воздух и продолжаю мысль: “Интересно… почему я не мог позволить себе плыть по течению? Помню, что ставил себе цели. Например, выучить английский, на что потратил годы, чтобы выяснить, что лучшая методика научиться говорить на языке – это говорить на нем. За месяц ежедневных коротких разговоров онлайн с иностранцами я научился больше, чем за все время, что провел в школе. Следующая цель у меня была переучиться на программиста, и я тратил каждый свой отпуск пару лет. Зато вырос в зарплате. Разве было это зря? Пожертвовать двумя годами, чтобы изменить свое будущее…” – тут я опомнился, что отвечаю на вопрос. “Да, мне нравилось то, как я готовлю себе беззаботную старость, ради которой я, наверное, и трудился. Я уже давно мог бы отправиться на покой с гордой надписью на граните: ‘он ярко жил и беззаботно старел’. А в итоге я снова чему-то должен учиться, снова доказывать свою полезность”.
Мы прошли в молчании еще некоторое время, пока она неожиданно не вскрикнула: “Белка! Смотри, какая красивая!” – Алина махнула рукой в сторону небольшого дуба, окруженного кустарником, но я там ничего не увидел. “Убежала”, – сказала она и, улыбаясь, продолжила путь.
– Значит, ты считаешь, что должен доказывать свою полезность обществу… – начала она с оживлением чуть погодя.
– Да не обязательно обществу, пусть даже самому себе, – перебил ее я.
– Но тут же все равно сравниваешь себя с окружением. Если жить вдали от людей, то может быть самореализацией будет то, какую хижину себе построил, какую добычу поймал. Как ты поймешь, что достиг того самого уровня, когда можно на покой?
– У меня был простой ориентир для этого: когда я буду стабильно получать деньги и не работать. Именно тогда без зазрений совести я бы смог заниматься тем, чем хочу: хобби, слушать аудиокниги на обычной скорости, не планировать дела на выходные и не следить за временем… Менять мир… Говорят, человек не может долго без работы – а я хочу это проверить. Узнать, чем я захочу заниматься, когда надоест отдыхать.
– Хм, в ваше время и правда было тяжело… – задумалась она.
– Неужели, деньги больше не проблема?
– Наверное не такая, но я больше о том, что тебе больше тридцати лет, а ты до сих пор не знаешь, кем хочешь быть.
– Ну знаешь, с двадцати одного года… – я ненадолго прервался на воспоминания, – до двадцати пяти или шести лет я менял работу в среднем каждый год. То я изучал макро и микроэкономику, чтобы поработать год экономистом, то читал книги о маркетинге и бизнесе, что тоже привело к этим сферам. Было тяжело заставить себя менять насиженное место, но мне почему-то стало быстро понятно, что это лучший способ расти по карьере. Потом началась мода на программистов, еще и мой друг детства, с которым мы учились, приехал с Москвы. Он там работал уже опытным разработчиком, потому что по специальности универа. Заговорили о зарплатах, и он спрашивает у меня, сколько я получаю. А в ответ на мою цифру, говорит: “А-а, у меня в принципе столько же, только в рублях”, что означало больше в пять раз! Снова я загорелся, но устроиться в полноценную IT-компанию получилось только годам к двадцати восьми. С тех пор так и работал, но уже менял компании раз в два года и реже, потому что нравилось. Понимаешь? Все нравилось, затем надоедало.
– Да, понимаю… Но все равно сейчас проще, потому что к окончанию института люди уже знают свое место. Лет на пять вперед, во всяком случае.
– Тогда это не сильно отличается от моих метаний.
– Может быть, но основная масса людей себя находит быстро и не устраивает таких гонок. А ты бы относился к той небольшой части выпускников, которым понадобится больше самоанализа.
– То есть они еще не успели карьеру начать, а уже знают, чем хотят заниматься?
– А вот это ты сейчас как раз и сможешь сам спросить! – будто делая мне сюрприз, Алина вытянула вперед обе ладони в направлении, где стояла небольшая забегаловка. – Хорошее место, чтобы перекусить, идем!
Это было одноэтажное строение с плоской крышей из стекла и дерева, которое удачно вписывалось в окружающий ландшафт. За пределы периметра со стороны входной двери широкой площадью выходил навес из белого брезента, подвязанный к деревянным колоннам чуть поодаль. Мы прошли под ним мимо пустых столиков и зашли внутрь, где за стойкой нас поприветствовал молодой парнишка лет четырнадцати: “Доброе утро! Будете первыми посетителями сегодня”, улыбнулся он нам. Алина попросила пару чашечек кофе и принялась обо мне рассказывать: какого я года, когда проснулся, откуда моя одежда, какими тропинками она меня вела и даже какую белку я проворонил. Парнишка выглядел восхищенно: “Две тысячи двадцать пятый… это же в период тех войн, когда люди поняли, как могут сами регулировать политику… а как здорово вы заставили власти…”. Тут его перебила Алина: “Ой, ты его сейчас перегрузишь, дашь нам еще фруктовый салат?”.
Пока он набирал что-то на экране, появившемся прямо на столе перед ним, я попытался расспросить ее о том регулировании, но она отмахнулась, ответив, что это большая тема, а у нас сегодня другая задача.
– Что же мы тогда сразу не пошли в школу или куда еще мы там планировали? – недовольно спросил я.
– Так вот же ученик, прямо перед тобой, – сказала она, указывая на улыбающегося парнишку.
Это не было большим сюрпризом, поскольку подработки и стажировки были вполне нормальным явлением для меня. Однако как выяснилось далее, молодежь начинает работать с тинейджерского возраста, что включено в общеобразовательную программу с определенным количеством минимально необходимых часов за полугодие. В самом начале достаточно отработать неделю на местах, которые не требуют большой ответственности и внимания, например, выгул и уход за животными или помощь вожатым в детском лагере. Однако перед поступлением в университет требуется отработать уже три месяца и больше за год, причем с продолжительностью занятости у одного работодателя не дольше месяца. К этому времени средний учащийся уже имеет опыт работы на пятнадцати и более рабочих местах в различных сферах – от обслуживания клиентов до аналитики и работы в финансовых институтах. Выбор места работы осуществляется учениками совместно с рекомендациями со стороны школы. Затем, в ней же проходит изучение полученного опыта: анализ ошибок, дебаты и аналитика на темы о том, какие мысли и чувства возникли у подростка, что это дало ему в жизни, оценка степени влияния на собственные взгляды, которые фиксируются и сравниваются из года в год. Это помогает учащимся лучше осознать полученную пользу и оценить изменения в своем мышлении. Сам процесс выбора места работы очень похож на реальный жизненный опыт: кандидатов ожидают те же этапы, как собеседование, устройство на работу, адаптация в новом коллективе и, в завершение, процесс увольнения. Отличие лишь в том, что нельзя прыгать в одну и ту же воду дважды, потому что получаемый опыт должен быть многогранен, и кардинальная смена сферы деятельности очень поощряется.
– Это уже моя третья работа по школьной программе. В первый раз я помогал в библиотеке для любителей бумажных книг. По идее, я устроился туда, где можно сидеть и ничего не делать, потому что я тогда не особо хотел работать. Но через пару дней я познакомился с одним стариком, который мне рассказал историю про цивилизацию, которая живет на планете, где есть периоды порядка и хаоса. Порядок, это как у нас на Земле, когда день и ночь предсказуемы. А когда наступает эра хаоса, то солнце может взойти и сесть через 5 минут, потому что может двигаться куда угодно, и в любой момент может наступить ужасная жара или холод. Два дня мы с ним встречались и он рассказывал все больше, пока наконец не показал мне книгу “Задача трех тел” Лю Цысиня. Оставшиеся дни я сидел с этой книгой, потому что старик мне сказал, что причина эры хаоса в ней объясняется научно и такие звездные системы есть на самом деле, и что одна такая – это ближайшая к нам звезда. Я бы и во второй раз пошел работать туда, но нельзя. Поэтому выбрал магазин одежды, потому что люблю новые вещи, а там обещали хорошие предложения для сотрудников. Что интересно, из посетителей мало кто пользовался виртуальной примеркой с ИИ-консультантом, я и сам с ним быстро наигрался. А реальная ткань на теле может по-другому сыграть. Для меня уроком было, что не всем мои советы подошли, хотя я был уверен, что вот эта вещь хорошо сидит, к примеру. Но когда они сами собирали полный образ, то, действительно, была у них какая-то изюминка, которую я бы не скомпоновал. Короче, не мое это оказалось, я, оказывается, не могу видеть глазами клиента их облик.
– Видишь, в тринадцать лет человек уже начал прощупывать свои интересы, – сказала Алина, подмигивая мне. Затем, обращаясь к пареньку, спросила: – А почему ты в этом году выбрал именно кафе?
– Мои одноклассники на уроках рассказывали, что их часто угощали, были интересные люди, веселые компании, и с некоторыми до сих пор общаются. Но я тогда подумал, что это намного легче, чем угадывать вкус в одежде и захотел проверить. Сейчас вижу, что действительно легче, потому что не нужно смотреть как человек выглядит и под это подбирать что-то подходящее. В целом, от посетителя многое зависит: если молчаливый, то мне пока сложно придумать с какой темы разговор начать: думаешь, может и не стоит начинать, вдруг он здесь отдохнуть хочет. По лицу иногда можно понять… хм… Кстати, запишу-ка я это себе как то, чему тут учился. Вчера вот только запись делал, что у похожих характерами людей часто и стиль в одежде похожий. Видимо, мне надо было лучше узнавать людей и их настроение перед примеркой.
Мы пили кофе прямо за стойкой, увлеченные беседой. Закуски и напитки на небольшом конвейере подъезжали к окошку за спиной паренька, поэтому ему требовалось лишь разворачиваться время от времени. Заказы же готовились автоматически после ввода их в систему, поэтому роль живого человека была чисто социальной. В целом, за счет автоматизации потребность в низкоквалифицированном труде практически сошла на нет и эти задачи очень часто брали на себя школьники в рамках обучения. Но, как сказала мне Алина, есть заведения, в которых работают сами хозяева, и эта деятельность довольно хорошо ценится, потому что к ним приходят за атмосферой и общением.
Поблагодарив за разговор, мы вышли и продолжили наш путь парковыми тропами, ведя беседы об образовании и о том, что препятствовало организации подобных систем обучения в мое время. Я начал с первой, на мой взгляд, причины: стандартизации. Западный подход стремится к унификации методик, которые должны быть одобрены для массового применения. Это также облегчает процесс оценки знаний по конкретным критериям при тестировании. Но здесь же и возникает первая проблема, что ученик стремится сдать экзамен, а не получить знание. Соревновательное обучение Японии и Южной Кореи имело похожие недостатки, но с более выраженными проблемами со стрессом и тревожностью.
“Это больше похоже на следствие, а что же было причиной, как ты думаешь?” – Алина аккуратно направила мои мысли.
Я начал перебирать воспоминания в надежде найти ответ в поступках людей. Первым таким воспоминанием было, что учителя в школе и колледже часто сами давали нам список экзаменационных вопросов с ответами, чтобы облегчить нашу подготовку. Они не меньше нашего понимали и даже признавали неэффективность открытых тестов, а так же и то, что в их интересах было, чтобы мы хорошо прошли экзамен. Средняя успеваемость учеников была показателем эффективности работы учителя в глазах его начальства. Точно так же, как средняя успеваемость школы влияла на престиж и финансирование директора. Эта круговая порука, которая узаконивалась бесконечными отчетами и планами за подписью взрослых, чудовищным образом извращала альтруистическую идею всеобщего образования. Смотря на сухой остаток, я видел, что будущее детей приносилось в жертву из-за неспособности найти решение этому конфликту интересов.
Но были и примеры качественных подходов в бесплатном образовании. Например, феномено-ориентированное обучение в Финляндии. Этот подход позволял студентам изучать реальные явления, тем самым прививая глубокие и устойчивые знания. Например, интерес к феномену искусственного интеллекта: где можно изучать его влияние на различные отрасли, включая здравоохранение, производство и услуги. Учащиеся могли бы анализировать этические вопросы, связанные с автоматизацией рабочих мест и конфиденциальностью данных. Такое исследование позволяет соединить знания из информатики, этики, психологии и образовательной науки. В основе этого метода лежит конструктивизм, который предполагает, что обучение – это процесс активного “конструирования” знаний. В отличие от традиционных методик, где ученик воспринимается как “пустой сосуд”, который необходимо заполнить информацией. В конструктивистском подходе ученик самостоятельно исследует и размышляет, активно принимая участие в создании собственного понимания мира. Это динамичный процесс, где каждое знание строится исходя из личного опыта и предыдущих знаний, что приводит к индивидуально уникальному результату обучения. Полная замена стандартной учебной программы представлялась сложной задачей, поэтому в Финляндии, насколько я помню, был только один междисциплинарный проект в году. Похожие инициативы с разным успехом были также в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Сингапуре и некоторых других странах. Возвращаясь к Казахстану, у нас, конечно же, были престижные университеты и платные школы, обучающие на престижных языках и/или методиках, но это было элитарное исключение для узкой группы людей, которым повезло родиться в плодородной среде, либо у мудрых родителей.
Говоря о мудрости, я вспомнил о своих размышлениях про почитание старших: “Знаешь, традиции же не за один год формируются. Мы ведь были кочевым народом тысячелетиями, – продолжал я свои рассуждения, – были мобильными, привязанными к своему роду, одним и тем же людям вокруг. Опыт жизни передавался не в школах, а от старших к младшим. Это как жить в малонаселенном или островном городке, где каждый знает каждого, потому что живут как будто одной семьей. Другой уровень отношений, не как в мегаполисах, где можно раствориться и обманывать людей одной и той же маской. А главное отличие в том, что авторитет был очень силен, потому что его было легко потерять, если у тебя душа темная. В замкнутом коллективе это же сразу вылезет наружу. Поэтому и воспитание было такое, с глубоким уважением к возрасту, авторитету. И если ты вдруг считал себя умнее, то мог отделиться со своей семьей и основать свой собственный аул, где ты был мудрейшим и вел свою политику. Так побеждала твоя правда”, – взглядом предлагаю Алине меня перебить, но молчанием она дала мне понять, что не теряет нити и внимательно меня слушает.
Я продолжил мысль тем, что с появлением школ в Казахстане, статус учителя был поставлен очень высоко, как и в других восточных культурах. Еще долгое время было престижным учиться на педагога, но само преподавание все дальше отходило от передачи жизненного опыта, знания традиций, природы, скотоводства, охоты и других аспектов, порой необходимых для жизни в тех условиях. Формальное образование победило, незаметно перекрыв канал передачи накопленного опыта. Мы потеряли способность передавать жизненные уроки поколений. Люди углубляют и умножают научные знания, но могут быть незрелыми во взрослых вопросах, наступают на одни и те же грабли. “Поэтому у меня до сих пор есть внутренний протест против восхваления возраста. Разве может быть мудрым поколение, которое не сохранило такую важную традицию? Если бы молодежь готовили ко взрослым проблемам, у нас была бы совсем другая судьба. За что почитать такое общество? Я думаю, что мужчина, который не передавал бескорыстно свои знания будущим поколениям, не может требовать называть себя аксакалом. Вот в этом причина того, что у нас не было хорошего образования. Одним словом тут определения не дашь”, – заключил я.
Пока мы шли какое-то время в тишине, давая себе возможность осмыслить сказанное, я невольно вспомнил эпизод из моей срочной службы в армии. Мы, парни от восемнадцати до тридцати с небольшим лет с разных регионов Казахстана, сидели в кабинете за партами в первые месяцы подготовки в учебном центре – прямо как в школе. Но теперь уроки отличались наличием мата и прочих военных терминов. Пухлый сержант лениво и подробно, нарочито монотонно объяснял нам разницу между правой и левой ногой, обещая, что если мы еще раз их спутаем, он привяжет нам к одной ноге яблоко, а к другой банан, и будет командовать: “Яблоко-банан! Яблоко-банан!”. Во мне тогда бурлила романтика приключений, я внутренне поощрял в себе уважение к званию и авторитету, а также необходимость подчиняться, дабы достойно пройти испытание повиновения, которое накладывал на меня этот период. В какой-то момент один из моих сослуживцев, что сидел между мной и сержантом, впал в немилость к нему из-за того, что переспросил плохо услышанное. Тогда сержант, продекларировав отныне называть его идиотом, обратился ко мне:
– Вот ты знаешь, как нужно отдавать воинское приветствие с автоматом за спиной?
– Так точно, прикладывая правую руку к головному убору.
– Объясни это ему.
– Товарищ сержант приказал объяснить, что воинское приветствие с автоматом в положении “за спину” выполняется прикладыванием руки к головному убору, – говорю я сослуживцу.
– Какой руки?! Нижней левой? – недовольно спрашивает у меня сержант.
– Виноват, правой руки к головному убору, – отвечаю я.
– Спроси у него, он понял?
– Товарищ сержант спрашивает, ты понял? – говорю я, терзаемый плохим предчувствием.
– Понял, – отвечает мне сослуживец, не выражая эмоций.
– Спроси у этого идиота, почему он тебе не ответил “так точно” вместо “понял”.
– Товарищ сержант попросил спросить, почему ты не ответил “так точно”, – стараясь скрыть смущение, передаю издевательское послание, даже не подумав хотя бы уточнить, к кому адресовать вопрос, чтобы не пользоваться навешанным ярлыком.
– Сука ты, – говорит мне сослуживец, обрывая эту спираль и подтверждая мне мои догадки о том, что я делаю что-то неправильно.
Для меня это было первое потрясение основ моего воспитания: человек старше нас на десяток лет, имея власть в виде звания и отличительных знаков, которые еще более усиливают заложенные в нас установки, воспользовался ситуацией для того, чтобы повеселить себя. Конечно, на тот момент я не имел этой формулировки, а просто чувствовал, что моя модель мира дала сбой. Я был правильным с точки зрения своего воспитания, но при этом был обречен совершить ошибку. Позже я научусь видеть разницу между просьбой и приказом, слабостью и манипуляцией, издевкой и искренностью. И многое будет идти вразрез с тем, чему я был научен до этого.
Видимо, поэтому срочную службу у нас любят называть школой жизни, что еще раз подчеркивает то, что под стандартами образования слишком рано были поставлены подписи согласования. В замкнутом коллективе наружу выходит все плохое и хорошее, что есть в людях. Ты узнаёшь много нового в том числе и о себе самом. А происходит это за счет однообразия каждого дня, когда все смертные грехи становятся заметны на однообразном фоне. На однообразном фоне обнажаются слабости и пороки, как при любых долгосрочных отношениях. Даже если сам не заметишь, их помогут вывести наружу твои попутчики, как в диалоге выше. А как было бы легче, если бы такую ситуацию мне рассказал кто-то из родственников или учителей. Достаточно было бы просто рассказать историю из жизни, которых предостаточно у каждого: конфликты в школе, выбор партнера, любовные переживания, предательства и т.д.
Я не заметил, как мы уже вышли из парка и приближались к трехэтажному строению перед нами, по виду напоминающего административное заведение. “Опыт поколений, говоришь? Мне нравится этот термин”, – Алина явно была довольна нашим разговором. Двери расступились перед нами и мы оказались внутри просторного холла с разнообразной резьбой на потолке и колоннах. Картины, висевшие на стенах, отражали различные эпохи и тематики: от античной культуры и древнегречеких персонажей до Эйнштейна и Бенджамина Франклина. Но мне все еще сложно было понять, школа это или университет. Пройдя немного по правому крылу, я заметил, что декорации начали сменяться на более красочные. Картины уступили место скульптурам и куклам, которые можно было трогать, играя с системой пищеварения человека или простейшими двигателями.