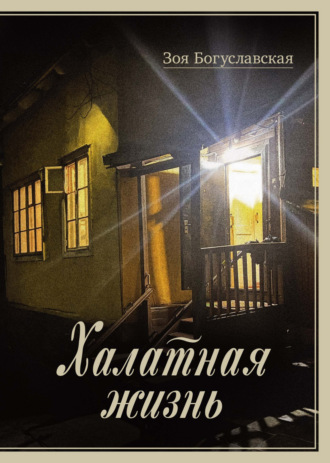
Полная версия
Халатная жизнь
Это письмо – единственная публичная, можно сказать, антисоветская акция, в которой я участвовала.
Думаю, я никогда не была и не могла быть своей для власти‚ потому что органически не способна врать. Лгать для своей выгоды, выкручиваться за счет вранья, перекладывать вину на другого – органически не способна. Наверно, это от чувства абсолютной независимости, невозможности быть зависимой, несамостоятельной, ущемленной в моей личной свободе. Это же унизительно, если я должна ту жизнь, которую проживаю, объяснение поступков, которые я совершаю, искажать во имя того, что кому-то это выгодно и хорошо, во имя того, чтобы власть ко мне хорошо относилась.
Тогда в литературе появилась новая когорта, новый виток известности уже в современной жизни позже названных «шестидесятниками» писателей. Однако против этого термина очень много протестовали сами шестидесятники, несмотря на историческую славу их творчества и деяний, но очень любили этот термин историки литературы 80-х, делая это явление исторически детерминированным, то есть показывая, что эта эпоха к истории страны и к вечности не имеет отношения.
Эти были поэты на стадионах со стихами, которые они назвали эстрадной поэзией только потому, что ее стало возможно читать на стадионах при очень большом скоплении внимательно слушающих людей. Однажды Артур Миллер, сидя на стадионе во время творческого вечера Андрея Андреевича, спросил у меня: «А почему все эти люди сидят здесь? Что для них нового в том, что читается этим поэтом, очень талантливым, очень знаменитым поэтом, вслух? Эта книга, которую он сейчас представляет, не опубликована? Эти стихи автор сейчас читает впервые?» Я сказала: «Да нет, почему? Опубликована». – «Зачем же они тогда встают со своих мягких диванов, взбитых подушек и кресел и тащатся через такое расстояние на стадион „Лужники“, чтобы послушать то, что они могут в полчаса прочитать?» Я пыталась обозначить то явление, которое тогда только вступало в силу, а именно прилюдное чтение стихов. Это можно назвать молитвой, религией, это можно назвать даже пропагандой каких-то идей, это можно назвать и просветительством, потому что, конечно, стихи, которые там выбирались и читались‚ были отличными от того, что публиковались в газетах и что пропагандировалось из «ящика».
Очень многие стихи были либо под запретом, либо ждали запрета, а если даже они не содержали в тексте какого-то большого инакомыслия, то часто интонационно его вложить получалось. Например, у Андрея Андреевича так бывало: он мог поменять строчку: «…Дитя соцреализма грешное, вбегаю в факельные площади…», но это был тот момент, когда, конечно, «дитя соцреализма грешное» – в печати было вымарано, эта строчка опущена, но иногда вслух в эстрадном исполнении она читалась или проглатывалась, но так‚ чтоб можно было догадаться. Так‚ в стихе из «Озы», например, когда он читал «можно бы, а на фига», все подставляли, конечно, те три буквы, которые внутренне, безусловно, имел в виду поэт.
Как сказать ему, подонку,что живем не чтоб подохнуть,—чтоб губами чудо тронутьпоцелуя и ручья!Чудо жить необъяснимо.Кто не жил – что ж спорить с ними?!Можно бы – да на фига?!Такого было много. Прозвучавшее публично иногда настолько опережало напечатанное в интонациях… Собственно, как весь спектакль «Антимиры» на Таганке, на который ходили как на исповедь политическую, как на истолкование исследования современности, которое не прочитаешь нигде.
Провала прошу, провала.Гаси ж!Чтоб публика бушевала…«ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ»
Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!Хороним.Хороним поэмы. Вход всем посторонним.Хороним…
Взывание к тому, что люди не могли творчески состояться в полную меру, говорить в полный голос. Тогда было ущербное восприятие личности, культуры, она была как бы уцененной за счет цензуры или просто изуродованной, покалеченной. Скрытое убывание, угасание какой-то мысли внутри стиха, которая иногда интонационно, голосом, жестом, всей манерой акцентирования поэтом со сцены приобретала тот смысл первоначальный, который автор этого стихотворения вложил.
Но вернусь к «Письму 62-х», которое я подписала. Помню, меня раза три вызывали к генералу КГБ, который курировал Союз писателей. Разумеется, он числился в штате Московского отделения Союза писателей СССР как секретарь по организационным вопросам.
Виктор Николаевич Ильин был, безусловно, продуктом эпохи, начинал службу еще в НКВД, и в его биографии, наверно, были и чудовищные страницы, связанные с историей и деятельностью НКВД. Но мне кажется, он, во-первых, считал, что служил и служит честно, во-вторых, он способен был видеть человека в человеке, который перед ним.
Ильин вызывал для объяснения всех, кто подписал «Письмо 62-х». Ходили слухи, будто некоторые ссылались на то, что письмо они не читали, хорошие люди дали, а они и подписали не глядя. А кто-то якобы оправдывался тем, что его по телефону спросили: «Ты за отмену цензуры? Ну тогда мы и твою фамилию включаем».
То есть были варианты отвертеться в какой-то степени. Но это же унизительно!
– Кто дал тебе это письмо на подпись? – спросил Ильин.
– Да как я могу сказать? Дали и дали, – ответила я.
– Ну мы же знаем, Зоя, кто дал. Уже многие признались.
– Если признался кто-то и вы уже знаете, то зачем меня-то спрашиваете?
– Как «зачем»? Потому что твое признание освободит нас от необходимости применить к тебе другие меры… Это значит, что ты не придавала значения, кто-то тебе подсунул, не ты автор, не ты выдумала эту враждебную акцию.
– Не могу сказать.
– Ты дура или ты кто? – начал повышать голос Ильин. – Ты понимаешь, что тебя поставят в ряд неугодных, непечатаемых?
– Не могу‚ и все, – уперлась я.
– Глупая, ты что, не понимаешь, что будет? Ну тогда и черт с тобой.
– Виктор Николаевич, ну поймите меня, я человек в полном сознании, взрослый человек, ну как я могу делать вид, что меня кто-то уговорил, кто-то мне что-то «подсунул». Я подписала письмо в полном сознании, абсолютно отдавая себе отчет в том, что я делаю.
– А какой ты отдавала себе отчет?
– Я считала и сейчас продолжаю считать, что нельзя быть уголовно наказуемым за проступок, совершенный неким героем некоего произведения, что художественная литература, как и любая выдумка, как любая воображаемая ситуация, не может оцениваться по меркам уголовного дела.
Ильин махнул рукой, я ушла.
Были и другие вызовы в КГБ. И, конечно, последствия. Сразу же выбросили из журнальной корректуры мой роман «Защита». Его напечатали спустя пять лет – благодаря настойчивости заведующей отделом прозы Дианы Тевекелян и главного редактора журнала «Новый мир» Сергея Наровчатова. Роман перевели и издали во Франции, пресса, литературная критика откликнулись статьями, рецензиями. В том числе перед публикацией перевода во Франции крупнейший критик Кирилл Померанцев в «Ле Монд» или в «Русской мысли», не помню, написал почти полосу рецензии на мой роман, где обозвал меня «новым Достоевским», что этот роман сродни «Преступлению и наказанию». Я была на презентации, все шло своим путем.
«Защитой» даже заинтересовались наши телевизионщики, известный режиссер Леонид Пчелкин написал синопсис и подал заявку на многосерийный фильм. После чего меня пригласил председатель Гостелерадио Сергей Лапин, известный как еще больший запретитель, чем специальная цензура. Само по себе было удивительно, что он разговаривал с автором.
«Вы знаете, моей жене исключительно понравился ваш роман, – сказал он. – Не скрою, написан не без блеска, там очень интересные, глубокие характеры. Но мы никогда не будем снимать по нему фильм, тем более показывать по телевидению».
Я молчала, мне их «почему», их объяснения уже не были интересны.
А Лапин продолжал: «Я вам скажу почему. Потому что я никогда не допущу, чтобы на советском телевидении показывали художественное произведение, в котором адвокат побеждает в судебном процессе. У нас, в Советской стране, не может побеждать адвокат. Если предъявлено обвинение преступнику, и прокуратура его поддерживает, и дает срок, никакой адвокат никакой роли уже не играет».
Я пожала плечами.
Он еще приобнял меня, провожая, и добавил:
«Я очень хотел бы с вами встретиться еще раз, пригласить вас домой, чтобы с женой познакомить, которой вы так нравитесь, показать свою библиотеку, у меня большое собрание книг».
Эрнст Неизвестный рассказывал, что у наших начальников от идеологии, у идеологических работников высшего звена были огромные библиотеки, он сам видел. Там весь самиздат, весь авангард, который у нас не издавался: Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Платонов…
То ли это были двойные стандарты, то ли так требовала их работа, то ли еще что… Но надо отметить, что были среди них и такие, как Игорь Черноуцан, консультант отдела культуры ЦК КПСС, «куратор» литературы. Даниил Гранин называл его главным заступником свободомыслящих писателей. Он спас такое количество шедевров литературы, умея аргументировать перед вышестоящими начальниками оправданность и патриотизм данного произведения, когда оно написано пускай не с негативом, но с глубокой любовью к Родине. Еще несколько было таких либеральных людей, слава им и поклон, потому что они очень многих спасали и от изгнания, и от запрета. Благодаря им «заморозки» не превратились в лютые «морозы», как угрожал Хрущев. Хотя ведь сам Хрущев, как бы жестоко ни поступал с интеллигенцией под влиянием гневного безумия, которое иногда на него налетало, и был прежде всего главным творцом оттепели, олицетворением свободы после сталинизма…
Он, конечно, в отличие от товарища Сталина, был человеком совершенно другой эпохи, абсолютно не жаждущим крови. Всем, на кого он кричал на встрече с интеллигенцией, начиная от Эрнста Неизвестного, Вознесенского, Евтушенко, Аксенова, Голицына‚ – он все равно не требовал казни. Кричал про высылку Андрею, но тоже этого не сделал. Впоследствии, о чем Андрей много раз упоминал, Хрущев все-таки нашел в себе силы извиниться перед поэтом, которому он причинил столько страданий. Уже на пенсии он сам понял, что такое опала государства, вероломство и предательство людей, которые еще вчера были твоими друзьями, подхалимами и делали невозможное с точки зрения законности по отношению к своим фаворитам.
Однако вернусь к КГБ, к Ильину. Помимо того что роман выбросили из журнала, дважды меня снимали с писательских туристических зарубежных поездок. Ну, туристические вояжи… бог с ними. Тяжелее всего было в третий раз. Нас с Андреем пригласили в Австралию, на прекрасных условиях, с пятизвездочными отелями, гонорарами за его и мои выступления. Я должна была читать лекции в трех или четырех университетах‚ в том числе о русском литературном авангарде 20-х годов, о Маяковском, Лиле Брик, о Татьяне Яковлевой. Я уже выступала с этими лекциями в Париже, перед студентами Сорбонны, опровергала наветы, что в смерти Маяковского виноваты Лиля Брик и Татьяна Яковлева. И чуть ли не в последний день перед поездкой в Австралию, когда я оформлялась, чтобы получить паспорт, меня вызвал Ильин:
– Ты никуда не поедешь. Я понимаю, какой наношу тебе удар, но ты никуда не поедешь.
– Да как же так? Там забронированы гостиницы на нас с Андреем, запланированы уже лекции!
Он потупился, наверно, даже сочувствовал:
– Ничего не поделаешь, посольство наше отказало…
Андрей, вернувшись, рассказывал, что во всех гостиницах нам были отведены люксовые номера на двоих, в программах значилось, что нас двое… Что думали пригласившие нас австралийцы, как им объяснили мое отсутствие‚ можно только догадываться. Это, конечно, муссировалось в их прессе.
Путешествие Андрея в Австралию имело почти невероятную криминальную историю. И не только криминальную.
Так или иначе, хоть я и не выполнила условия контракта, но тем не менее Андрею заплатили гонорар и за мои несостоявшиеся лекции. Сумма получилась огромная, и он, будучи человеком с невообразимыми эскападами характера, невероятными порывами, взял да и купил мне какое-то потрясающее ожерелье, а к нему кольцо и браслет. Драгоценности упаковали в роскошный футляр, похожий на футляр из-под скрипки. Кроме того, он купил мне куртку и полупальто на меху. Мало того‚ норковую шубу, а вернее – манто. Андрея повсюду сопровождали его сумасшедшие русские поклонники, меценаты, которые владели в Австралии меховой фабрикой. Они привезли его туда и продали норковое манто с какой-то безумной скидкой. Утверждали, что это штучная, редкая вещь, что второе такое манто сделали по заказу какой-то принцессы.
Андрей говорил, что его буквально распирало от гордости, когда он вез эти подарки. Во-первых, они сами по себе стоят того, во-вторых, это хоть какая-то компенсация за то, что меня не пустили в Австралию.
Я его встретила в аэропорту Шереметьево, самолет прилетел ночью. Разобрав багаж, мы обнаружили, что одного чемодана нет. Все отнеслись к этому спокойно, нам объяснили, что рейс транзитный, несколько чемоданов по недосмотру не выгрузили в Москве – и они улетели в Лондон, через день-два вернутся и найдутся.
Неделю Андрюша чуть ли не каждый день ездил в Шереметьево. И действительно, вскоре чемодан вернули. Андрей примчался домой и стал доставать подарки, вибрируя от счастья, что его женщина, живущая, на зарплату и редкие гонорары, станет как принцесса.
Вынул белую спортивную куртку, я тут же ее примерила – как раз. Потом – кожаное пальто на рыжем меху, очевидно, это была лиса. И, наконец, со всякими гримасами полез на дно чемодана, куда упаковал самое драгоценное – футляр с ожерельем, кольцом и браслетом.
Футляра не было. Андрей перерыл весь чемодан – футляр исчез.
Потом он вспоминал, что ему советовали вынуть драгоценности из футляра и положить в сумку, держать при себе. Но ему хотелось, чтобы было красиво – драгоценности в футляре, похожем на футляр скрипки.
А норковое манто я не носила. Мне говорили, что некоторые дамы в Большой театр ходят в норке, распахнутой, и с бриллиантами на шее. Но это не мой стиль, я так не могла. И вообще, поняла, что эти меха никогда носить не буду. Норковое манто так и провисело в шкафу, пока его не стал просить один очень крупный художник. Для возлюбленной, ослепительной первой красавицы Москвы. Это был его подарок к ее дню рождения.
Денег за него мы получили немного по сравнению с действительной ценой манто, но ровно столько, что их как раз хватило на нашу первую машину – «Жигули» первой модели. Она доставила нам несказанное удовольствие. Другое дело, что все закончилось аварией, к счастью, без травм и даже ушибов. Характер не позволял Андрею быть сосредоточенным на чем-то; задумавшись, он забывал, что управляет автомобилем. В общем, нашу первую машину он разбил. К счастью, повторю, без последствий для здоровья.
Последняя беседа в КГБ была связана с выступлением Андрея в американском посольстве.
– Ну ты же взрослая женщина! – выговаривал мне Виктор Николаевич Ильин. – Ну, с поэтами бывает разное, какой с них спрос. Но у тебя-то есть голова на плечах! Такую умную бабу, как ты, надо еще поискать. И как же ты могла допустить, чтобы Андрей выступал на вечере в американском посольстве вместе с американским поэтом, когда все писали, что в это время наши враги устроили провокацию в Сан-Франциско?!
Я посмотрела на него ясными глазами:
– Кто писал?
– Весь мир писал.
– Виктор Николаевич, я не читаю несоветских газет, я не слушаю все эти зарубежные радиоголоса. Покажите мне газету, нашу, советскую, из которой я смогла бы узнать о провокации в Сан-Франциско.
Наверно, такой ответ ему в голову не приходил. Он на меня посмотрел, махнул рукой и с дикой досадой сказал:
– Иди!
И я ушла.
Так завершился сюжет с подписанием письма протеста, вызовами в КГБ и запретом на поездку в Австралию. Вполне благополучно завершился. Особенно по сравнению с репрессиями, которые обрушивали на диссидентов.
Конечно, меня охранял и ореол поэзии Андрея Вознесенского, его имя и слава. Его выпускали за границу, а я пять лет была «невыездной» – как в советские времена говорили. После этого я не испугалась, не перестала говорить, что думаю, но отпечаток остался на всю жизнь. Впрочем, с этим я сталкивалась и раньше. Это уже другая история, может быть, еще более бессмысленная. А может, и нет. С тех пор границы абсолютной бессмысленности стали размытыми.
Глава 5
Выигрыши
17 августа 2016 года
В нынешнем моем состоянии, когда вечность мне дала понять, что она гораздо важнее, я подумала о том, что у меня есть несколько постулатов, можно назвать слоганами. Поскольку сейчас дождливое настроение, я их расскажу.
1) Никогда не волнуйся по поводу предстоящих обстоятельств, волнуйся по поводу тех, что у тебя уже случились.
2) Счастья отпущено человеку в жизни очень немного. Оно может быть очень недолгим. Но если тебя наделили умением испытывать счастье оттого, что счастливы другие, то тебе счастья будет отпущено очень много.
Даже сегодня, в преклонном возрасте, я испытываю бурную радость, когда узнаю, что кому-то повезло, у кого-то что-то сбылось или случилось. Я умею быть позитивной в любых обстоятельствах. Если мне выпадает какое-то испытание, то я всегда думаю о том, что все не так плохо, ведь я не родилась в какой-нибудь голодной части Африки. Я не ем насекомых, чтобы выжить.
3) Никогда не радуйся несчастью твоих врагов. Радость на чужом несчастье тебя разрушает. Ты думаешь о том, что это справедливо, что он это заслужил, но это не так. Такая радость разрушает, одним концом она бьет по самому тебе.
4) Не бойся испытывать страх, он всегда живет в нас. Его надо научиться предчувствовать и настраивать себя. Настраивать на то, что может что-то случиться‚ и тогда этот страх не покалечит тебя.
5) Никогда не откладывай ничего не будущее. Его не будет, есть только настоящее. Свою жизнь надо проживать здесь и сейчас. Это время – твое, а будущее – неизвестно.
* * *Мою жизнь сопровождали некоторые странные ситуации, к которым абсолютно не прикладывались ни мой характер, ни стиль поведения. В некую упорядоченность, благонравность, почти добродетельность, привитые мне в семье, вдруг могли вклиниться одержимость, азарт на грани сумасшествия, пробуждая жажду риска. Так, еще в третьем классе я могла вызваться ночью пойти в дальнюю пещеру, куда никто не решался войти, могла на спор сказать дерзость самому бандитскому десятикласснику, к которому ребята даже подойти боялись.
Казалось, сама судьба расставляла на моем пути эти встряски, выплески авантюризма, чтобы потом плавно погрузить в повседневность, буднично регулируемую моими обычными свойствами. Эти перепады были угаданы в «Озе», когда мы только познакомились с Андреем Вознесенским: «Пусть еще погуляется этой дуре рисковой… Пусть хоть ей будет счастье… От утра ли до вечера, в шумном счастье заверчена, до утра? поутру ли? – за секунду до пули».
К примеру, случай на бегах, за год до Вознесенского. Тогда, в начале 60-х, средоточием моей жизни, моих интересов было Московское отделение Союза писателей, возглавляемое поэтом-лириком Степаном Щипачевым. Здесь царила эйфория первой оттепели, когда казалось, что все начинается с белого листа. Все лучшие представители молодой писательской поросли верили, что цензура ослабела, началось пробуждение. Но вскоре наши иллюзии рассеялись. Щипачева и Елизара Мальцева сняли с их постов, а встречи Никиты Сергеевича Хрущева с интеллигенцией, разгром художественной интеллигенции поставили точку в том кратком сюжете.
Итак, 1961–1962-й, половодье свободы стремительным потоком влилось в сам образ жизни нашей компании, резко отделив времяпрепровождение в студенческие, аспирантские годы – с нынешним. Ошарашивали смелостью «Новый мир» Александра Твардовского, «Современник», Таганка, Шестое объединение «Мосфильма».
Именно в те годы одной из забав стали возрожденные бега на Московском ипподроме. Волею случая он располагался напротив Литературного фонда на Беговой улице, завсегдатаями его были писатели, артисты, люди из научного и делового мира. Однако мне там бывать не доводилось. Однажды Анатолий Гладилин, встретив меня в Центральном доме литераторов, все его называли просто ЦДЛ, стал уговаривать поехать с ним на бега. Заманивал меня тем, что будет «первоклассная команда»: Вася Аксенов, Жора Садовников, Жора Владимов и кто-то еще, сейчас уже не вспомнить. Казино, рулетки, все, что наводнило Москву в 90-х, тогда в помине не было, понятия о них не было. Играли в карты, почти невинно (покер, преферанс, кинг, подкидной), в бильярд.
Легендарным бильярдистом считался поэт Александр Межиров, в ту пору любимец женщин, человек с романтической репутацией, мэтр и мистификатор одновременно. Впоследствии он уехал в Штаты, как полагают, из-за истории с молодым актером, которого он сбил на дороге, будучи за рулем. Ходили упорные слухи, что Межиров не подобрал его, никуда не заявил‚ и кто, мол, знает, может, парня удалось бы спасти, если бы вовремя оказали помощь. Коллеги актера еще долго требовали возмездия, грозясь посадить Межирова, несмотря на его славу поэта, знаменитые стихи, начиная с «Коммунисты, вперед!». А потом затихли. Мои американские знакомые утверждали, что именно благодаря бильярду он сколотил некий прожиточный минимум.
Итак, основными посетителями, болельщиками, игроками на бегах, если говорить о писательской среде, были авторы, чьи имена прославил журнал «Юность». Уже гремели «Коллеги» и «Звездный билет» Василия Аксенова, «Дым в глаза» Анатолия Гладилина, повести Георгия Садовникова, «До свидания, мальчики» Бориса Балтера. Впоследствии Валентин Катаев полушутливо выделил Гладилина, когда опять же полушутливо выдумал новое литературное течение – мовизм.
Вокруг тогдашней «Юности» группировался и цвет современной поэзии: Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Наум Коржавин. Всех привечал и печатал Валентин Катаев. Впоследствии мне приходилось читать и слышать много нелестного о Катаеве, о годах, предшествовавших «Юности», со сладострастием оповещавших о том, какой ценой стоял он на ветру, обладая остро-наблюдательным волшебным талантом метафоризма и перевоплощения, но это не мои воспоминания, мои – о Катаеве в другом облике.
Тогда все мы выпорхнули из катаевской «Юности», как из гоголевской «Шинели», нас соединял незримый союз посвященных. Номер журнала невозможно было достать, новомодные выражения, сошедшие со страниц аксеновских повестей и стихов Евтушенко и Вознесенского, становились общеупотребительным языком молодежи: кадриша, чувиха, прикольный и тому подобное. Новый стиль был оппозиционностью, сопротивлением навязанному стандарту жизни в чем-то сильнее, чем политические декларации. Как впоследствии этот словесный андеграунд будет складываться из песен Владимира Высоцкого и Б. Г. – Бориса Гребенщикова [10].
Но в моей истории главный на бегах – Толя Гладилин.
– Сколько у тебя денег? – спросил он деловито, когда я согласилась поехать с ним. – Ты мало чем рискуешь, поставишь на ту лошадь, которую я скажу.
Толя был завсегдатаем, он знал наездников и лошадей, ставки.
– Три рубля, – сказала я, извлекая из кармана трешку.
– Не густо, – усмехнулся Толя. – Ну, ничего, глядишь, если повезет, можешь получить вдвое. Только слушайся.
Загипнотизированная уверенным взглядом его синих глаз, уже охваченная азартом, я согласилась на все. На покорность и подчинение.
Когда мы влились в муравейник бегов, морозный день набирал силу, на скамейках трибун все жались друг к другу. Помню пар от горячих пирожков с мясом, которые продавали за 5 копеек штука. Пока Толя делал ставки, я тоже захотела подкрепиться, но мне уже не досталось. Самое удивительное, что те, кому пирожки не доставались, поглощали эскимо и сливочное мороженое; при одном взгляде на них – кожа скукоживалась.
Прозвенели сигналы, начался пробный заезд. Очевидно, каждый должен был определить своих фаворитов и сделать ставку. Мои мальчики, как бывалые игроки, уверенно отобрали своих лошадок и наездников. Толя назвал мне одну из них – тоном, не допускающим возражений. Но я, завороженная одной лошадкой, не спешила соглашаться. После второго пробного заезда я уже твердо осознавала, что вопреки логике, совету Гладилина и обещаниям слушаться его все равно поставлю свои три рубля на грациозное создание, в которое влюбилась. Это был полный абсурд, так как моя фаворитка один раз пришла предпоследней, в другой – третьей от конца.
– Дура! – заорал Толя, узнав, что я буду ставить на совершенно шальную лошадку, которая не значилась ни в одном из его отборных списков.
Остальные молчали, Аксенов поблескивал смеющимся глазом, он уже ошалел от этого воздуха риска, опасности проиграться.
– Если тебе не жалко трех рублей, – сказал недовольно Толя, – отдай чувихе, вон той, с бантом, она себе мороженого купит. Ну, идиот, зачем только я тебя приволок!
Все это, конечно же, была перепалка с холостыми зарядами, но все же она внесла смуту в мое настроение. Однако вспыхнувшая вдруг любовь к изящной, орехово-паркетной лошадке с тонкими длинными ногами и гордо выгнутой шеей была непреодолима, я поставила на нее. Кинула последние три рубля на абсолютно бесперспективный номер… Звали ее, как потом оказалось, Клико.











