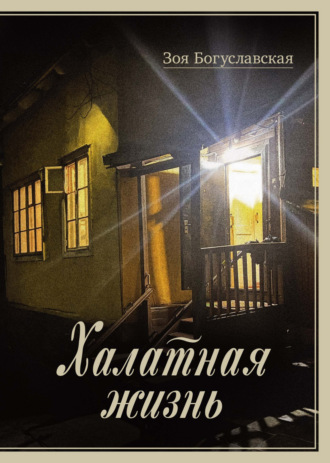
Полная версия
Халатная жизнь
Время идет, и оно настолько резко изменилось, как не менялось никогда в истории нашей страны. На дворе новая цивилизация – компьютерный век, век информационных технологий. Абсолютно новые системы, составляющие другую модель мышления и поведения. Это, конечно, глобальное ошеломление, но мне в новом времени живется неплохо. Во-первых, у меня работают молодые ребята, они всем этим уже владеют. Ощущение, что они родились с этими знаниями. Семилетний сын моей домоправительницы Лены уже отлично управляется с компьютером. Конечно, разрыв между теми, кто живет по старинке, и новым, компьютерным поколением колоссален. Людям, которые ничего в этом не понимают, очень тяжело. Но повторюсь, меня это не коснулось, я человек думающий, анализирующий и очень быстро начинающий понимать, что надо. Если мне это лень, то кто-то это за меня быстро сделает, и получается, что я все равно пользуюсь плодами технологических достижений века.
А поскольку сегодня мне уже 93 года, я воспринимаю жизнь как чудо, как высшую благодарность судьбе за то, что я на своих ногах, при своих ушах и глазах. Я практически здоровый человек: то есть я сама могу себя обслуживать, могу сама работать и продолжаю придумывать что-то на работе, потому что придумывание – это и есть мое привычное состояние. Я просыпаюсь, еще лежу в постели, а уже мысли вскочили в голову, и я ничего не могу сделать, не могу спать. Бесконечные воспоминания… или мне вдруг приходит в голову какая-то новая идея или впечатление, новое толкование старого смысла. Я вспоминаю встречи и людей. Этот мыслительный процесс происходит беспрерывно. Я всегда живу с лозунгом Татьяны Бехтеревой, которая говорила: «Умные живут дольше». И я, глядя вокруг, отмечаю: все, кому за 80 лет‚ – очень умные люди.
Вот моя подруга Инна Вишневская. Она очень давно лежит, не ходит, целыми днями смотрит телевизор. Я спросила: «Что же ты вообще делаешь, если ты не читаешь, не пишешь, а только смотришь телевизор?» Инна моментально ответила: «Как – что? Я думаю!»
И я поняла: она лежит, и перед ней проходит вся ее жизнь.
Глава 2
ГИТИС. Ленинградский проспект. Каганы
29 сентября 2020 года
Проживя долгий срок, я еще в состоянии не только диктовать, но и ходить, и даже работать. На моих плечах, кроме фонда, который занимается популяризацией творческого наследия Андрея Вознесенского и культуры его эпохи, а также координирует деятельность премии «Парабола»[1], появился еще и Благотворительный культурный центр Вознесенского. Председателем попечительского совета уже взялся быть мой сын Леонид Богуславский, я думаю, он будет моим правопреемником во всех моих акциях, связанных с Андреем Вознесенским, с моей памятью о нем, с моими сорока шестью годами, прожитыми вместе с ним, с этим ужасом его ухода из жизни, когда по всей логике и правилам должно было быть наоборот, – я, которая старше его на восемь с половиной лет, должна была уйти первой.
Именно поэтому, кстати замечу, у меня не было никаких документов, оформленных на меня, никаких завещаний, ничего – я настолько была уверена, что уйду первая и что мне не о чем в этом смысле не только беспокоиться, но и вообще грешить подобными мыслями. Потом пришлось все налаживать: дача, записанная на него, и так далее, и так далее, – но сейчас я не об этом. Продолжаю о моей жизни.
В Томске я работала в военном госпитале до поступления в Ленинградский театральный институт, который был там в эвакуации, проучилась год и перевелась в ГИТИС, когда вернулась после эвакуации в Москву.
Я никогда ни за что не боролась, ни за одну должность, ни за одну возможность. Но у меня всегда был четкий выбор. Идешь направо – песнь заводишь, налево – сказку говоришь. И выбор всегда был рискованным и необычным.
Например. Я учусь на подготовительных курсах технического вуза, сдала уже одну сессию, и вдруг, во время прогулки со своими девчонками в Томске, вижу объявление, что Ленинградский театральный институт производит новый набор на факультеты такие-то и такие-то и желающие могут прийти зарегистрироваться и сдать экзамены. Многое произошедшее со мной в жизни было глубочайшей случайностью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Премия «Парабола» вручалась в 2013–2019 годах.









