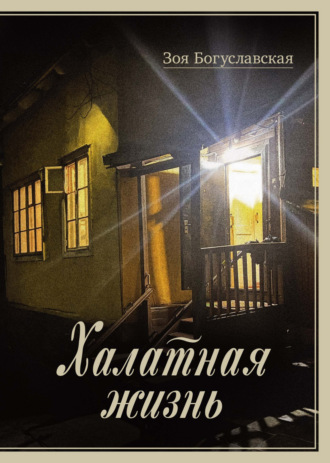
Полная версия
Халатная жизнь
Это стихотворение прошло по всем объединениям интеллектуального творчества. Его знали студенты, театралы, художники, все, потому что потому что действительно, не как писал Слуцкий, в моде были уже не физики, а лирики. Тогда была жизнь на самом деле в сращении физиков и лириков, страна подымалась очень быстро вверх по части осмысления прошедшего опыта и достижений мировой науки. Плеяда физиков того времени абсолютно неповторима: «могучая кучка», в которой было несколько нобелевских лауреатов и очень крупных светил: Ландау, Тамм, Семенов, Халатников и другие. И среди них вращался Юра, младший брат Каганов, на 10 лет моложе моего мужа и самый младший в этом физическом взрослом окружении, хотя он первым стал впоследствии сначала членкором, а затем и действительным членом Академии наук. Сегодня это крупный ученый, известный во всех странах мира. Он женился на дочке писателя Николая Вирты Тане Вирте, с которой и по сей день здравствует.
Вот эта квартира, наполненная высокими интересами, конечно, кружила голову. Но позднее случилось мое знакомство с более молодой когортой поэтов, появился на горизонте Андрей Вознесенский, с которым из знаменитой троицы поэтов я познакомилась последним.
В ту пору, когда моя дружба с Вознесенским только начиналась, я была хорошо знакома с поэтами старшего поколения – Борисом Слуцким, Женей Винокуровым, Давидом Самойловым. Потом чуть спустя получилось так, что у меня было несколько поводов сблизиться и стать поверенной в некоторых секретах Жени Евтушенко и Роберта Рождественского. С Борисом Слуцким и Самойловым я познакомилась в квартире Бориса Кагана.
Ну что еще вспомнить о моей той давней жизни? Рожала я в Ленинской библиотеке в научном зале. То есть я писала там диссертацию, когда все началось, позвонила мужу оттуда и сказала: «Бобка, я рожаю». Он сказал: «Еду». Он перепугался насмерть, он меня все-таки очень любил. Примчался с машиной, отвез меня из Ленинки в роддом.
Когда узнала вся компания гитисовская, все учителя, что я родила, это была сенсация, – все стали мне писать письма. И вот 17 июня 1951 года в клинике на Пироговке я лежу в каплях пота после тяжелых родов. Внизу толпятся мои друзья, мой муж Борис Каган, все шлют мне записки, поздравления. Пишут, что я родила самого крупного ребенка за эти сутки, 4 килограмма 200 граммов. Спрашивают: как назову? «Я предлагаю назвать Константином»‚ – пишет мне Костя Рудницкий, кто-то – Владимиром, а кто-то Родомиром. Длинное письмо от нашего гитисовского гуру Дживелегова [5], крупнейшего ученого с мировым именем, который преподавал у нас мировую литературу. «Боже мой, наконец-то, – пишет он, – наша обаятельнейшая Зоя Богуславская будет ходить без этой горы на животе и станет прежней. Поздравляю, Зоя! Женщин с ребенком у нас еще нет. Ты первая. Мы тебя все любим!» Письмо от Леонида Зорина: «Не слушай никого, Константинов было много отвратительных. Назови лучше сына Леонидом. Леониды были только достойные люди». Я улыбаюсь, ощущая дикую неимоверную слабость и непонятное чувство: неужели это я родила? Неужели в этой жизни будет что-то более важное, чем все остальное. Мельком соображаю, что, быть может, Леонид отличный выбор, потому что дедушка был Лев, а просьбой Бориса было любое имя без буквы «р», которую он не выговаривал.
Возвращаюсь из роддома, а мне предстоит защищать диссертацию, я ж родила за два месяца до защиты. Так что о том, чтоб я занималась только ребенком, речь не шла. Единственное счастье – у меня было большое количество молока. Мы уехали на дачу в Шереметьевское и там я работала, пока сын спал. Мне все помогали. Якобы. Но когда сын начинал кряхтеть, как дедушка так: «А-а-а, о-о-о», а потом раздавался крик, я это слышала через этажи, через террасы, и первая все равно подходила, не могла вынести крик – я так боялась, когда видела еще в роддоме надрывающихся детей, аж синеющих от крика. Я знала, что это вредно, хотя все говорили тогда, что так развиваются легкие, а я понимала, что это такие страшные нервы для ребенка, до сих пор не могу слышать, когда дети плачут. У меня это пунктик. Я грудь давала, он быстро очень успокаивался, посапывал и засыпал уже до утра. А я, бывает, изможденная в последней степени, почти не спала. Это было тяжелое дело – автореферат написать, быть готовой к ответу на какие-то вопросы оппонентов на ученом совете, это не то, что потом началось, – штамповали и за деньги, и без денег кандидатов. Мы были очень заслуженные кандидаты.
Дедушка и бабушка в семье Каганов были важней всего. Когда появился ребенок, я сказала: «Рахиль Соломоновна, вы целыми днями гуляете…» – она же ничего не делала, это потом я оценила, что она была неплохая тетка, но тогда она ответила: «Зоя, ребенок – это не я». Никто не хотел помочь мне с моим сыном. Его все очень любили, но одно дело любить, а он был хороший ребенок, обаятельный очень, мог с каждым человеком подружиться, так вот одно дело любить, и другое дело – тратить время и возиться. Возиться с ребенком никто не хотел. В квартире, в которой было пять комнат, минимум семь взрослых людей, ни один не соглашался хотя бы час погулять с ребенком, чтобы я могла заниматься делом. Потом появились няни, а пока, как только сын засыпал, я бежала к учебникам.
Вся семья Каганов часто собиралась вместе, читали стихи. Я, когда могла, присутствовала, иногда брала ребенка в коляске. Я всегда была заметным активным человеком, неравнодушным к общественным событиям, никогда не выступала, но всегда помогала, где-то мелькала, но из-за своей застенчивости, нелюбви к пиару, которая была у меня всегда, никогда не называла себя. И вот в аспирантуре меня вдруг выбрали секретарем комсомольской организации.
Аспирантура у меня, как известно, была в Институте истории искусств, во главе которого еще стоял Игорь Грабарь, академик и очень крупный художник и ученый‚ – позднее его именем был назван институт, и его заместитель Владимир Семенович Кеменов. Эти два ярких человека рулили той жизнью, и она была очень насыщенна и подлинна, посвящена искусству. И там меня вдруг выбирают секретарем комсомольской организации.
Конечно, как всегда, Нея Зоркая сунулась, предложила кандидатуру, единогласно проголосовали. Хотя мне это было настолько чуждо. Какой комсомол?! Я знаю, что моя энергетика, активность личности, креативная реактивность, я бы сказала, воспринималась очень многими как возможность посадить меня чем-либо руководить, мне предложения были вплоть до замминистра культуры, но я категорически не вступлю и не вступала на эту стезю.
Выбрали. А тогда что было делать? Не отказываться же! Секретарь комсомольской организации – это вроде как доверие друзей, общественная нагрузка. К счастью, аспирантура в Институте истории искусств последнее место, где кипит комсомольская жизнь: и по возрасту, и по интересам немногочисленных членов ВЛКСМ. Но раз секретарь – приходилось бывать и в райкоме, и в других организациях.
Очень скоро из комсомольского возраста мы вышли. Я стала работать редактором в издательстве «Советский писатель», выпустила книгу о Леониде Леонове, меня приняли в Союз писателей СССР. В Московской организации как-то стала формироваться группа для туристической поездки за рубеж – уже и не помню, в какие страны. Обыкновенная туристическая поездка. Я тоже решила мир посмотреть, стала оформлять бумаги, и вдруг мне говорят: «Тебя вычеркнули из списка». Я была ошарашена.
Удивленная и возмущенная, пошла за объяснениями к секретарю парткома Московской писательской организации, бывшему чекисту, автору кондовых советских книг в духе несокрушимого соцреализма. Сейчас его дочка одна из самых успешных писательниц детективного жанра, говорят, у нее самая большая читательская аудитория, самые большие тиражи.
Пришла к нему, спрашиваю: «Разъясните, я в чем-то виновата? Я не понимаю. Я что – зараженная, прокаженная? Почему группа едет, а меня снимают с поездки?»
Он повел себя исключительно порядочно. Сказал: «Дело в том, что в твоем досье есть какой-то момент, который заставляет меня не пускать тебя за границу, на всякий случай. Я не имею права об этом подробно говорить, но обещаю, что устрою прием у самого Егорычева».
Ну и ну! Николай Егорычев в 1962–1967 годах – первый секретарь Московского горкома КПСС. «Хозяин Москвы»! Моим делом будет заниматься первый секретарь Московского горкома КПСС, человек из высшего руководства страны? Когда я к нему пришла в кабинет, то увидела на столе бумаги с моей фотографией. «Вот какая история, дорогая Зоя», – сказал он мне. И рассказал то, о чем я никогда не знала, даже не слышала.
Хочу сразу сказать, что никогда родители не только со мной об этом не говорили, но они никогда об этом не упоминали. Я знала, что у мамы было три младших сестры – Ида, Рая и Даша. Ида и Даша вскоре после Октябрьской революции, в 21-м или 22-м году, уехали за границу, в Палестину. Государства Израиль тогда не было. Испугавшись то ли революции, то ли какая-то коммерческая, может быть, деятельность у них была, не могу знать. Уехали – и словно канули. Дома у нас о них никогда не говорили.
И вдруг этот человек, первый секретарь горкома партии‚ рассказывает мне следующую историю. Одна из моих теток была в России. Она приехала, чтобы навестить могилу моего дедушки, ее отца. Она приехала сюда, ее наши органы тут же засекли, потому что она остановилась в посольстве Израиля, уже Израиль был. Приехала на несколько дней, но при ней, может, какие-то бумаги были, и она была сочтена как лазутчик‚ и это отметили. Моей маме, родной сестре, она позвонила по телефону, потом я это все узнала от мамы уже, и сказала, что она приехала на несколько дней как работник посольства и хотела бы, чтобы мама ей показала, где могила отца. Они пошли с ней на его могилу.
Как оказалось, наши «органы» за тетей моей следили то ли с момента приезда, то ли от израильского посольства и полностью проследили ее путь и сколько часов они с мамой пробыли вместе. Они делали довольно добросовестно в это время свою работу, КГБ. За кого уж ее приняли‚ неведомо. Следили, все зафотографировали – и маму мою тоже. И все это попало в мамино тайное досье. Наверно, как «возможный контакт с иностранцами». Как строчка в анкете: «Имеете ли родственников за границей?»
Потом тетя вернулась в посольство и улетела. Но история эта как шлейф по наследству досталась мне. Первый секретарь Московского горкома КПСС товарищ Егорычев сказал мне: «Напиши заявление, что ты никогда не видела и не была знакома с твоими тетками, которые уехали до твоего рождения, что ты об их приезде не знала». Ничего другого он не требовал, никаких отречений от родственников. «Я о встрече моей матери тоже не ведала, но полагаю, – я написала, – что для приезда к нам был только один повод – повидать могилу родного отца, который захоронен здесь‚ при том что они люди религиозные. Я считаю, что если за ними других грехов не было, то это не грех, а положительное явление». Я написала это заявление, он скрепил своей подписью и, таким образом, снял с меня клеймо, черную метку, с которой я могла бы прожить в Советском Союзе всю жизнь до распада СССР – никаких заграниц, даже туристических поездок. Так было. Такие были времена.
Конечно, такое внимание к простому человеку – это был почти единичный случай, но так бывало даже у Сталина. Как известно, он вдруг среди абсолютной жестокости и уничтожения как родственников, так и бывших своих партнеров, братьев по революции, мог ткнуть пальцем в Берию и сказать, чтобы такого-то человека не трогали. Это были абсолютно единичные случаи при том количестве людей, которых просто по спискам, по деревням уничтожали, но такие были. Например, одним из таких случаев было то, что Сталин‚ подобно Мандельштаму и Мейерхольду‚ не уничтожил Пастернака и сказал: «Не трогайте этого юродивого». Даже он понимал, что тот разговор, который Пастернак с ним вел о Мандельштаме, мог вести только человек, у которого в голове нет никакого соображения выгоды. Все долго числили часть вины за судьбу Мандельштама лежащей на Пастернаке, который мог, может быть, сказав что-то другое, остановить процесс издевательства, пыток над Мандельштамом. А с другой стороны, наверное, не мог…
Первая нота, посеявшая сомнения в правильности моих убеждений, была сделана Леонидом Зориным. Мы очень дружили с этим замечательным драматургом, который тогда уже был полузапретной звездой – он написал несколько пьес, которые тут же запрещались. Самая главная, заслужившая постановление ЦК и вызвавшая кровохарканье у автора Леонида Зорина, была пьеса «Гости». Она была полностью запрещена, но и многое в последующих драматургически значимых пьесах проходило очень трудно.
Однажды он завел меня на кухню, дело было уже после окончания ГИТИСа – году в 1949-м, и у нас зашла речь о Кирове и об арестах. Он мне вдруг сказал: «Неужели ты не понимаешь, что Кирова убил Сталин?» Я была настолько этим ошарашена: «Почему? За что?» Он сказал: «Ну, конечно, потому‚ что он на XVII съезде партии получил больше голосов, чем Сталин. Это чистое уничтожение соперника». И естественно, никакого Николаева, якобы убившего Кирова из ревности, не было, – то есть эта версия, произносимая тихим возгласом «Ах, какая смелость! Убить из ревности!», была неверной, так как на самом деле был убран яркий соперник Сталина, будущий, может быть, преемник власти. Тогда уже было совершено огромное количество убийств, репрессий, связанных с «делом врачей», космополитизмом… То есть огромное поле, куда входили генетика, здравоохранение, военная стратегия, сельское хозяйство с Лысенко, было выжжено указами Сталина, выкосившими всех наших крупнейших ученых. Это ужасно осознавалось, особенно после «дела врачей», потому что мало кто понимал, что никакой Виноградов или Коган [6] или кто другой не собирались отравить или неправильно лечить Сталина, потому что это были лучшие врачи. И эта фраза Лени Зорина легла на целый хвост моих воспоминаний.
Леня Зорин был как шестая девица в нашем «пятибабье», потому что он ухаживал, а впоследствии женился на одной из нас, а именно на Рите Рабинович, которая потом стала Генриеттой Зориной. Блестящая, рано ушедшая (не помню, в каком возрасте, но она первая из нас ушла) в небытие, написав книжку об Андрее Лобанове, лучшую, которая была написана про этого замечательного театрального режиссера. Яркая брюнетка с еврейским отпечатком, с философским, сосредоточенно умным лицом с редкой улыбкой. Мы считали ее самой умной среди нас.
Глава 3
Работа редактором
20 ноября 2017 года
Возвращаюсь к своим воспоминаниям и расскажу про три моих необычных попадания в прессу.
Я уже защитилась, и поскольку я была все-таки очень бриллиантовым персонажем и в ГИТИСе‚ и всюду, то меня решили пригласить на самую почетную должность, а именно завотделом культуры МК. Это не сегодняшний «Московский комсомолец», тогда это было всевластно. Фамилия пригласившей меня была Славьева, и я запомнила ее на всю жизнь.
Она говорит: «Зоя Борисовна, мы вам предлагаем работать в МК». Вероятно, она думала, что я упаду в обморок от счастья. А я отвечаю: «Очень тронута», а сама знаю, что этого не может быть, она что-то недопонимает, может, посмотрела не туда, куда надо. Она говорит: «Значит, мы вам даем отдел театров». Я была бы большим начальником, а это всего 51-й год. Сколько мне лет-то! Она продолжает: «Вот, заполните здесь небольшую анкетку». Мы сидим за ее столом в райкоме. Я заполняю, и в 5-м пункте пишу, естественно, «еврейка» и понимаю, что со Славьевой будет, и мне за нее становится больно. Она читает и… помню, говорит так вкрадчиво: «Что ж вы не сказали, что у вас такой маленький стаж».
По-моему, она сказала даже не «маленький», а что «у вас практически нет стажа», а я отвечаю: «А вы что, не понимали этого? Я же при вас защитила».
Я ушла, честно говоря, счастливая, потому что никогда бы в партийном органе не стала работать.
Я работала в «Советском писателе» старшим редактором, когда меня взял к себе Борис Михайлович Храпченко [7]. Так я попала в журнал «Октябрь», где стала внештатным литредактором в отделе критики. Таким образом, карьеру я сделала через Храпченко и через писателя Леонова, потому что Храпченко обожал Леонида Леонова, и тот действительно был несказанно талантлив. Храпченко поручил мне сделать материал про Леонова, помог составить опросник, чтобы я поговорила с ним. И вот, когда пришло время ехать, я заболела, у меня поднялась высокая температура. Но я же камикадзе, и я к нему приехала с температурой. Я приходила к нему три дня подряд и записала все его слова. Получилось такое наставление писателям, как писать, ликбез про то, что есть писатель, разбавленное его рассуждениями. Практически он мне дал записать свой мастер-класс. Эта солидная публикация вышла в «Октябре» и стала страшно популярна. Ее читали во всех институтах, а моя фамилия даже не фигурировала нигде.
Во время публикации очерка мне пришлось лечь в больницу из-за язвы. И только впоследствии я узнала, что, когда Леонову выписали гонорар за статью, он его не взял и сказал, что «все это сделала Зоя Богуславская». Ему объяснили, что я в больнице и меня это не интересует. Это было мое первое большое выступление в прессе.
Следующий эпизод. В издательстве мне дали поработать с Галиной Николаевой, той, которая написала роман «Битва в пути», и мне его дали на редактирование. Я была счастлива, что мне, такой молодой, дали солидное произведение. Я очень гордилась этим, а потом узнала, что все, оказывается, отказались редактировать этот роман. Мне рассказали, что у Николаевой ужасный характер и никто не любит с ней работать. Но я ей отредактировала роман, что называется, с иголочки.
Дальше я сделала следующее: пришла к ней и сказала: «Галина Евгеньевна, я очень много поправила в этом романе. Почитайте это и отметьте все‚ что вы не примете, я закрываю глаза и подписываю в печать как есть». А в романе правки было море, но я решила, раз у нее такой характер, надо чуть-чуть отступить, как я всегда делаю. Она позвонила мне на следующий день и со всем согласилась. Я ей сделала качественный роман, который получил потом Ленинскую премию, но я никогда этим не хвасталась.
Николаева была контужена‚ и у нее часто возникали проблемы с сердцем, ее хоронили раз сто. Ей дали врача Бориса Вотчела [8]. Он пользовался исключительным успехом, и его давали только избранным. Однажды, когда он пришел к ней домой ее лечить, я как раз была у нее. Он на меня посмотрел и спрашивает: «Барышня, вы почему такая бледная?» А я говорю: «Да я всегда такая». Он подошел, пощупал пульс и спросил: «Скажите мне, слабость у вас бывает?» Я ответила, что очень часто. И он мне сказал следующее: «Пойдите и завтра же купите себе качественный кофе. Этот напиток создан для вас. Вы такой гипотоник, которого свет не видывал!» И вот всю свою жизнь я пью кофе два раза в день: утром и в 17:00.
Потом я пришла работать в комитет по Ленинским премиям, я попала туда через знакомого, что было в первый и последний раз в моей жизни. Я ужасно не хотела там работать, но Игорь Васильев меня почти заставил. Как-то он принес статью для «Октября», а в литературе он был совершенно бездарен, но я статью отредактировала, а он начал за мной ухаживать неистово, совершенно безответно. Тогда почему-то он решил сделать дело своей жизни и устроить меня в Ленинский комитет. Так я стала там заведующей отделом литературы.
* * *Второе мое появление в прессе было следующим. Когда я работала в журнале «Октябрь» под предводительством Михаила Храпченко, состоялся знаменитейший рейс, когда 400 граждан Советского Союза поехали по пяти странам. Ехало очень много почетных граждан. Путевку предложили нашему главному редактору, но жена отговорила его, и он отдал путевку сотрудникам. В итоге поехала я.
Я оказалась в каюте с Эрой Кузнецовой, дочкой тогдашнего заместителя министра иностранных дел‚ – мы с ней были самыми молодыми на этом корабле. Мы очень подружились, и она меня учила азам пребывания в зарубежье. Я совершенно обалдела от количества вещей, которые видела вокруг себя‚ и, конечно, мне хотелось накупить всего и сразу и потратить все свои немногочисленные деньги. Но она меня научила и сказала, что я не должна покупать вещь в первом месте, где я ее увидела. «Потом найдешь вдвое дешевле ровно то же»‚ – сказала она. Но самое замечательное, конечно, было то, как я попала там в печать.
Нас кормили в заранее зарезервированных точках, это были рестораны или кафе. И в Италии нас повезли в ресторан, где, конечно, дали пасту, которую мы умяли за пять минут. На следующий день наши попутчики приносят газету с фотографией – я крупным планом‚ и по-итальянски написано: «Русская сеньора ест макароны». Меня сняли папарацци в этом ресторане в тот момент, когда я пыталась на вилку накрутить спагетти. Смеху было много, конечно! Это было мое второе попадание в прессу.
А третье было таким. Я уже была с Борисом Каганом. Он ухаживал за мной, всюду меня встречал, дарил не просто цветы, а подарки. Я не могу сказать, что я его сразу полюбила, но я с ним стала чувствовать себя женщиной. В Бориса была влюблена моя подруга, и я ему сказала, что не могу ответить взаимностью, потому что не готова обидеть подругу. Но он дал мне понять, что любит меня и никакая другая ему не нужна. Так я стала жить с ним в квартире на Ленинградке, а тогда квартира на Ленинградке это был синоним успеха и интеллигенции. Борис ввел меня в мир ученых, я познакомилась с Ландау и многими другими. Я была больше в кругу физиков, чем лириков.
Окончив театральный институт, театроведческий факультет, я работала, что называется, по специальности. В моем багаже было уже немало статей о театре и кино. Но каждый раз, в каждой статье цензура находила, к чему придраться. То объект не тот, то хвалю не то, что надо. Это было обычное дело, привычное – крест критики в те времена. Ведь критик пишет открытым текстом, напрямую, от своего имени. А вот художественные тексты, выдуманные, вымышленные события и персонажи – немного другое дело, тут устами придуманных героев можно было кое-что сказать. К тому времени вышли две мои монографии – о Леониде Леонове и Вере Пановой. Рукопись о Пановой терзали, как могли, но, когда книга все-таки вышла, лестное письмо о ней написал мне Корней Иванович Чуковский. Как-то, забежав, похвалил ее мой приятель Андрей Вознесенский. На удивление своему окружению, он стал бывать регулярно, читал новые стихи, приглашал на премьеры, одаривал смешными штучками. Однажды сообщил, что рекомендовал книгу Илье Эренбургу, который в ту пору покровительствовал литературному авангарду. Это отдельная история, я потом ее расскажу, но сейчас важно, что через неделю Андрей соединил меня с мэтром по телефону, и я выслушала его благосклонное мнение.
«Вот видишь, – сказал Вознесенский, – зачем ты тратишь время на какую-то другую писательницу, когда сама пишешь не хуже?»
Естественно, я не отнеслась всерьез к его словам. Мне мешало и то, что на наших полках стояли великие книги самиздата и тамиздата: Набоков, Солженицын, мемуары Надежды Мандельштам и Евгении Гинзбург, Борис Пастернак. На страницах журналов уже появились и появлялись замечательные повести и стихи моих современников: Юрия Казакова, Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц, Андрея Битова, Владимира Войновича, Георгия Владимова, самого Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Попытки приобщения к подобной литературе казались мне неслыханной дерзостью.
Да, я писала, но скрывала, что сочиняю пьески для студенческих спектаклей, в столе прятала небольшую повесть. Как-то из любопытства послала рассказ в журнал «Октябрь» – под псевдонимом Ирина Гринева. Моему изумлению не было предела, когда через пару дней, поздно вечером, к нам домой, на Ленинградское шоссе, 14, пришел пожилой человек и спросил, здесь ли живет Ирина Гринева. Дверь ему открыла Елена Ржевская и ответила, что таких здесь нет. А человек удивился: «Ну не может быть! Вот адрес под рассказом, мы хотим его опубликовать, надо побеседовать с молодым автором». Лена сказала: «Нет-нет, вы ошиблись. Что-то тут не так. У нас нет Ирины». И он ушел. Я стояла за спиной Лены – и не призналась.
Глава 4
Недиссидент
17 сентября 2014 года
Я никогда не причисляла себя к почетной когорте диссидентов, не выходила на площади, не делала публичных заявлений, не участвовала в правозащитных акциях. Кроме одной – в 1966 году подписала коллективное «Письмо 62-х» [9] в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Синявского приговорили к семи годам лагерей, Даниэля – к пяти годам заключения по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». За то, что печатали за рубежом (под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак) свои романы, повести, рассказы, эссе. Писателей обвинили в том, что их произведения «порочат советский государственный и общественный строй».











