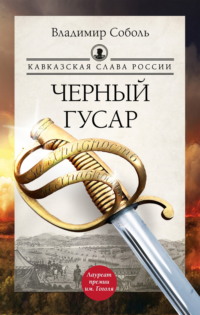Полная версия
Кавказская слава России. Время героев
– Ай, жалко мальчишку! – вырвалось у Валериана, но он тут же оборвал себя и поморщился: нельзя поддаваться ни гневу, ни скорби, генерал должен жалеть людей после боя. – Якубовича ко мне!
Лихой штабс-капитан подскакал с обнаженной шашкой, откинувшись в седле, готовый уже рубить.
– Капитан, за вами они пойдут! Ударьте, сбейте их, отбросьте. Мы должны оттеснить их к горам!
Молча откозыряв, Якубович поднял коня свечой, повернул и унесся к кюринцам. В чистом утреннем воздухе Мадатов хорошо видел, как он чертом вертится посреди взбаламученной массы, крутит над головой шашкой. Выскочил из толпы, стал, несколько пуль ударили в землю рядом. И потихоньку-потихоньку кюринцы потекли вслед новому командиру; сначала по одному, потом десятками, а после все десять сотен, или сколько их осталось после первых несчастливых атак, весь авангард отряда Мадатова навалился на врага, тоже устремившегося навстречу…
Остались бы люди Абдул-бека на месте, возможно, они и четвертый раз отбили атаку мадатовской кавалерии. Но выдержки у них было куда меньше, чем храбрости. Чудовищное облако пыли поднялось над местом, где столкнулись тысячи воинов; Валериан уже не видел ни Якубовича, ни зеленого знамени, под которым рвался в схватку русский штабс-капитан, только слышал единый вопль бога войны, в который сплелись крики людей, ржание их лошадей, стук копыт, лязганье отточенной стали. И только по тому, как стало перемещаться серое облако, он понял, что драгуну удалось потеснить конницу лаков. Сейчас они отодвинутся еще дальше, уйдут влево, к отрогам хребта, и совершенно откроют выход на плоскость. Он повернулся отдать приказание, но Аслан-хан уже стоял рядом, упреждая его желание.
– Гассан-ага убит, – начал Валериан без обиняков. – Мне жаль его. Он был храбрым человеком и мог стать отличнейшим офицером.
– Он был моим братом, – коротко ответил кюринский властитель.
Валериан взглянул ему прямо в глаза: знает ли Аслан-хан, чья пуля пробила сердце его сводного брата? Но тот мрачно и твердо встретил взгляд генерала. Сейчас не время было заниматься расспросами.
– Я поставил над его людьми Якубовича.
– Он тоже храбр и еще более опытен.
– Он сбил людей Сурхай-хана и теснит их все дальше. Пройдешь быстро мимо него и потом развернешься к горам. Пусть они поднимаются выше, пусть оторвутся от Якубовича, пусть уходят к Кази-Кумуху. Но только пусть не мешают моим батальонам идти к Хозреку.
– Ты сказал!
Аслан-хан поклонился, отъехал в сторону, а через несколько минут земля дрогнула, и вороной под Валерианом шарахнулся в сторону, когда мимо пошли сотни и тысячи всадников татарской милиции: карабахцы, ширванцы, шекинцы. Сначала молча, молча, потом загикали, завизжали, все громче и громче, все отчаяннее понукая лихих коней, приведенных с равнины.
Ван-Гален остановил лошадь, соскочил вниз, раздвинул подзорную трубу и положил ее на седло.
– Ну! Куда? Скорей! – торопил его Мартыненко. Майор не намеревался быть грубым; ему просто не хватало французских слов, чтобы составить длинные фразы.
Дон Хуан, не отвечая, медленно вел трубу вдоль стен Хозрека. Пушечки стояли за парапетом, но они были совсем не опасны. А вот длинные винтовки защитников крепости могли убрать орудийную прислугу много раньше, чем ядра обрушат камни, искусно сложенные и обмазанные высохшей глиной. Рва перед стенами не было, по крайней мере, такого, какой Ван-Гален привык штурмовать в Европе. Несоразмерная работа была – добить эту скалу, начинавшуюся в полуметре под слоем нанесенной ветром земли, желтой, сухой, совершенно не плодородной. Но шла, тянулась, опоясывая Хозрек, длинная тонкая щель, разлом, который сама природа, сами горы приготовили, чтобы помочь своим жителям. Внутри щели копошились люди, перебегали с места на место, дон Хуан видел только мохнатые головные уборы, значит, глубина оврага позволяла стрелкам стоять в полный рост. «Какие параллели, – посмеялся над собой дон Хуан, – какие там правила инженера Вобана [26]! Только штурм, прямой, отчаянный, под пулями, от позиции и прямиком к стенам».
Он повернулся, наконец, к майору.
– Пушки туда. – Говорил дон Хуан отрывисто, выбирая самые простые слова. – Там ядра полетят дальше, чем пули. Но как тащить? Колеса – нет…
По обе стороны дороги, ведущей к главным воротам, равнина была так изрезана, изрыта, смята, будто бы какой великан нарочно сжимал ее толстыми, заскорузлыми пальцами.
– Не твоя печаль, дон Иван! – пробормотал Мартыненко уже по-русски и подозвал Синицына, капитана, что командовал батареей.
Артиллеристы зашевелились, закричали, забегали, и спустя полчаса восхищенный Ван-Гален увидел, как орудия, одно за другим, покатились к намеченной им позиции. Стволы в семьсот килограмм без малого ловко сняли с передков и лафетов и поставили на катки. Огромные бревна напилили заранее и везли на специальной повозке как раз для такого случая. Волы тянули усердно, люди подталкивали с боков, а специальная команда выхватывала освободившийся балан и заносила вперед, подкладывая под казенную часть.
За полтора часа четыре двенадцатифунтовые пушки перетащили, водрузили опять на лафеты и изготовили к бою. Защитники крепости пробовали помешать работе, стреляли разрозненно, беспорядочно, но пули, как и предполагал Ван-Гален, почти все падали, обессилев, не долетев метров десяти – двадцати. Только одному волу перебило ногу внизу, у копыта, да солдата контузило в шею. Животное прирезали, человека перевязали, а вдоль позиции поставили плетеные корзины, набив их камнями. Орудия зарядили и ждали только сигнала.
Подъехал Мадатов с офицерской свитой и десятком казаков. Осмотрел позицию и, довольный, кивнул испанцу. Конные привлекли внимание, несколько пуль завизжало в воздухе, серым клубочком дыма пыхнула пушечка, пристроенная меж зубцов парапета. Ядро ударило в землю, сажени три не долетев до позиции, запрыгало мячиком, пока не уткнулось в корзину. Вороной нервно перебрал ногами, пошел было, избочась, но Валериан резко натянул поводья, заставив того стоять смирно. Хороший был под ним конь, и масти почти такой, как покойный Проб, но и вполовину не так умен, храбр и послушен.
Офицеры заволновались, придвинулись к генералу, закрывая его от выстрелов, закричали наперебой:
– Ваше сиятельство!.. Ваше превосходительство!.. Господин генерал-майор!.. Отъезжайте!.. Вас видят!.. Вас выцеливают!..
Валериан усмехнулся. Ему льстили эти встревоженные возгласы, эта искренняя тревога. Он лишний раз убедился, что его любят в войсках, что люди готовы кинуться в бой, на приступ не только потому, что их обязывают долг и присяга, но и потому, что верят ему, генералу Мадатову. Он знал, что офицеры и солдаты выполнят любой его приказ, но посчитал бы бесчестным использовать их преданность без крайней необходимости. «Не пожалею ни лошадей, ни людей», – вспомнил он фразу, что кинул Приовскому в хмельной запальчивости лет восемь тому назад, перед самой Березиной. Теперь он уже знал, что солдат, и особенно здесь, на Кавказе, дорог – ценней любого успеха: сражение он мог повторить, а пополнения ему ждать было неоткуда. Но и высокие стены аула стояли перед ним, отражая горячие солнечные лучи, словно подразнивая дерзких пришельцев, посмевших подняться с равнины.
– Если я отъеду, – крикнул Валериан, оглядывая конных и пеших. – Если я отъеду, кто будет брать Хозрек?!
– Мы! – воскликнули разом все офицеры, хором в полсотни, наверное, голосов, легко перекрывая отдельные выстрелы и топот батальона, становившегося плотной колонной. – Мы будем брать Хозрек!
Ван-Гален не понимал и три четверти сказанных слов, но догадывался об их смысле, и также кричал вместе со всеми, поднимая к небу драгунскую тяжелую саблю. Его захватил общий порыв, он, как и прочие товарищи по оружию, уже любил этого курчавого, горбоносого генерала, он готов был кинуться под ядра и пули, согласен был умереть, остаться в сухой земле, в далекой, но такой понятной ему стране.
Валериан собрался было уже отъехать, но его остановил Мартыненко. За спиной майора стоял унтер-офицер, среднего роста, крепкий, видимо, очень сильный и ловкий. Лицо его было черно от порохового дыма, солнца и пыли; за плечом унтера висело ружье на погоне, второе, также с примкнутым штыком, он держал у ноги.
– Ваше превосходительство! Вы предлагали проверить – не пытался ли неприятель углубить ров. Вот, унтер-офицер Орлов ходил к крепости.
– Днем? – Валериан изумленно смерил Орлова взглядом. – Правда, унтер? Как удалось?
– Потихонечку, ваше превосходительство. – Орлов отвечал не быстро, но и не путая слова от смущения, не тушевался, но и не нагличал; держался просто, с видом человека совершенно уверенного в себе самом, в своих словах и поступках. – От камушка к камушку, за кустами, вдоль трещинок. Эти бусурмане кричат только громко, а порядка в них нет. Подползли, высмотрели, что нужно, и назад тем же манером.
– И что ров?
– А ничего. Ничего они там не делали и не сделают. Такую землю им кроме как порохом и не взять. Пытались, кажется, где-то долбить, да и бросили.
Валериан остался доволен услышанным. Страшные воспоминания о штурме Браилова уже не грозили стать реальным кошмаром. Высота стен Хозрека, которую сообщили ему лазутчики, не увеличилась, и срубленные заранее лестницы должны были поднять его солдат хотя бы до парапета.
– Почему два ружья? – спросил напоследок, впрочем, уже предполагая ответ.
– Так кончился Федор мой, – также спокойно ответил унтер. – Как ползли назад, его кто-то и выцелил. То ли с окопа, то ли с крепости. Даже не крикнул, сердечный, ткнулся головой в камень, ножками посучил и затих. Его тащить я уже побоялся, а ружье и пули забрал.
Валериан повернулся в седле, отыскивая взглядом начальника штаба.
– Запишите, Мориц Августович, фамилии обоих. Как вернемся, скажу Алексею Петровичу. Обоим знак Георгиевский за такую отчаянность. Это надо же – днем…
– Ваше превосходительство, – прервал его унтер, не обращая внимания на огромный, волосатый кулак, который показывал ему командир батальона. – У меня этот знак уже есть, мне второй, стало быть, и без надобности. А за Федора, за Черепкова, похлопочите, будьте милостивы. Он уже не узнает, так семье может послабление которое сделают.
Только теперь Валериан разглядел на широкой груди Орлова серебряный крестик знака отличия.
– За что получил? – начал было расспрашивать и тут же оборвал себя сам. – Так ты тот самый Орлов, что в Недосягаемом стане держался?
– Так точно, господин генерал-майор. И Черепков тогда со мной высидел. А здесь…
Он шумно вздохнул, будто всхлипнул, замолчал и вытянулся, расправляя мощные плечи. Валериан тоже выдержал паузу.
– Его не забуду. Да и тебя тоже, Орлов. Крестик, да, второй раз тебе не положен, но на прибавку к жалованью можешь рассчитывать… Майор! Мартыненко! Людей в строю не держите напрасно. Пусть сядут, передохнут. Сначала орудия поработают, потом уже по сигналу – с богом!
Он повернулся, поехал прочь, думая, сколько же людей не досчитается уже после первого приступа и переживет ли очередное сражение ладный и храбрый унтер, чью простую фамилию он услышал больше года назад от Ермолова в его тифлисском особняке.
Валериан въехал на небольшой пригорок и остался в седле. Зато спешились штандарт-юнкер Солодовников и оба его помощника. Развернутое знамя Солодовников уставил в землю и стал рядом, придерживая древко, давно отполированное ладонями многих знаменщиков. Два подпоручика с обнаженными саблями отступили на шаг назад и замерли, положив лезвия обухами на плечи. Свита теснилась чуть ниже, каждый офицер был готов в любую секунду сорваться с места, мчаться под ядрами, пулями, чтоб передать приказ, вернуться с донесением и описанием боя.
Валериан посмотрел на красное солнце, ползущее к верхней точке, на синее небо, не успевшее еще выцвести за столько тысячелетий. Слева поднималась горная цепь, поблескивая вдали снеговыми шапками. Туда, к отрогам хребта, Аслан-хан оттеснил лакскую конницу и цепко держал позицию, не давая противнику возможности ударить на изготовившуюся к штурму пехоту. Четыре батальона выстроились колоннами и ждали только приказания к приступу. Пятый Валериан развернул к левому флангу, на случай, если храбрая, но нестойкая татарская конница вдруг брызнет в стороны, как разбившееся стекло. Прямо перед позицией отряда лежал аул Хозрек. За высокими белыми стенами дома´, словно каменные темные соты, карабкались вверх, громоздясь один на другой. Тяжелая работа ожидала его людей, но там, за аулом, еще невидимая начиналась долина, поднимаясь к столице мятежного Сурхай-хана. Генерал Ермолов приказал взять Кази-Кумух, и Валериан знал, что должен быть там не позднее июля.
Он снял фуражку, перекрестился, уверенно пристукивая лоб, живот, грудь сложенными щепотью пальцами; надел фуражку, поправил козырек, еще помедлил и, наконец, махнул рукой: «С богом!»
Четыре конгривовы ракеты [27], злобно шипя, сорвались со станков и понеслись к Хозреку. Две свалились, не долетев, одна ударила безвредно в стену, зато последняя взорвалась в ауле, среди построек, выплеснув невидимый отсюда огонь. И тут же ударили двенадцатифунтовые пушки с позиции, определенной для них испанским майором. Штурм начался.
Ван-Гален стоял с другими офицерами впереди батальона и смотрел, как поставленная им батарея ломает толстые стены. Один за другим рявкали залпы, орудия подпрыгивали, опираясь на лафеты, словно бы на хвосты, как огромные, огнедышащие драконы, затем, словно на лапы, припадали опять на колеса. Прислуга банила, прочищала жерла, из которых еще курился серый дымок, опускала картузы, вкладывала чугунные шары ядер, прибивала пыжи, пробивала заряды, освобождая место огню, и, доложив о готовности, замирала. Командир батареи, усатый, чуть волочащий правую ногу, штабс-капитан выкрикивал короткий приказ, четыре фейерверкера разом подносили горящие пальники к затравочным отверстиями, и еще четыре снаряда уносились вдаль, сквозь густое облако дыма, что уже заволокло подступ к Хозреку.
Дон Хуан знал, что теперь от него мало что будет зависеть, и старался расслабиться, накопить побольше сил перед боем. Утром он отказался от завтрака, желая оставить пустой желудок на случай ранения. И теперь, чувствуя, как туманится голова и посасывает под ребрами, он пытался решить: виноват в его недомогании голод или волнение? «Странно, – спрашивал сам себя, – какой же случай занес его сюда, на край света, и бросил посреди огромных снеговых гор? Какая судьба заставила его воевать бок о бок с людьми, чей язык он разбирал меньше чем на одну четвертую часть? Щекотка любопытства? Похоть храбрости?» Мало он дрался за прошедшие годы, так еще собирался через несколько десятков минут бежать, размахивая тяжелой, громоздкой саблей, лезть на стены городка, о котором услышал впервые в жизни, убивать людей, о которых ничего не знал, о которых даже не слышал до последней недели.
Тем не менее он знал, что прозвучит сигнал, и он побежит, и полезет, и будет наносить удары, и будет отражать чужие. Он был солдат по профессии, и люди, окружавшие его, были профессиональными солдатами, и те, с кем они собирались сразиться, должно быть, не уступали им в свирепом упорстве.
Пузатый майор Мартыненко что-то говорил своим офицерам, и те вдруг рассмеялись, занялись заливистым, слегка дребезжащим хохотом. Дон Хуан не понял, над чем смеются, но тоже заулыбался, не желая выглядеть чужим в этой славной компании. Мартыненко довернулся к нему и крикнул несколько слов на своем ужасном французском:
– Что, майор?! Пушки!.. Хорошо!.. Скоро и мы…
Он замолчал и вдруг совершенно неожиданно подмигнул и скорчил уморительную физиономию. Тут и Ван-Гален взорвался сердечным смехом, также слегка нервным от ожидания схватки, но и невероятно довольным. Он окончательно понял, что вокруг него, рядом, впереди, сзади, находятся люди совершенно свои по сердцу, как если бы он снова стоял в рядах мушкетерского полка армии генерала Куэсты [28].
Артиллерист Синицын забрался на пушку и, расставив трубу, всмотрелся вдаль, пытаясь разглядеть нечто сквозь завесу порохового дыма и пыли. Спрыгнул на землю, пошел, почти побежал к Мартыненко. Тот выслушал штабс-капитана, посерьезнел, приказал офицерам разойтись и стать перед строем. Возвращаясь на место, Ван-Гален увидел, как молодцеватый унтер, тот, что разговаривал с генералом, вдруг зажал ружье между коленей, поплевал на ладони, обтер друг о друга и снова стал с оружием на плече. Другие солдаты тоже готовились наступать: кто повторял движения унтера, словно лесорубы, собираясь приступать к особо высокому дереву, кто мелко крестился. Дон Хуан переложил саблю в левую руку, тоже осенил себя знамением, зашевелил губами: «Ave Maria…» Могла же Дева-заступница последовать за ним и сюда, на юго-восточную оконечность Европы.
Валериан, не отрываясь, следил, как две батареи садили залп за залпом, посылая ядра в стены аула. Ван-Гален, вспомнил он, назвал эти пушки осадными. Но так их можно было именовать лишь в сравнении с прочими, шестифунтовыми, годными только для поля – встречать картечью наступающего противника. На приступе к крепости полевые орудия могли разве что бить поверх парапета, бросать зажигательные снаряды. Да и то, ракеты Конгрива справлялись с подобными задачами куда как лучше. А проломить стены – на это были способны только восемь двенадцатифунтовых орудий. Но и то лишь после упорной долбежки. Настоящие осадные пушки, чудища в сотни пудов, стерли бы бастионы Хозрека в каменную пыль за считанные минуты. Но о том, чтобы доставить их в горы, не следовало даже мечтать, чтобы не терять время напрасно. Посылать же людей к неповрежденным стенам Валериан не хотел. Он понимал, что в любом случае штурм обойдется его небольшому отряду чересчур дорого. Даже перевалив через стены, им придется с боем брать каждый дом, каждую саклю, пробиваться по улицам, где за каждым дувалом мог притаиться стрелок. Где женщина умела обращаться с ружьем не многим хуже своего мужа, а мальчик приучался к кинжалу раньше, чем начинал ходить.
– Ваше сиятельство! – окликнул его поручик Тупейцын. – Взгляните, кажется, стена Мартыненковская того-с…
Валериан встрепенулся и снова поднял трубу. Вороной стоял ровно, и он без особенного труда нащупал участок, в который била батарея, установленная Ван-Галеном. Подул ветер, клочья дыма поплыли в стороны, и Валериан, словно бы в амбразуру, увидел со слепой дикой радостью разбитые перемолотые камни, из которых в незапамятные времена неведомые строители сложили стены Хозрека. В этот момент новый залп грянул, четыре ядра в который уже раз грохнули в стену, и та осыпалась, явив огромный пролом с рваными краями. Страшно так, что Валериан их услышал, закричали люди, раздавленные обломками. Или, может быть, ему только показалось, что он услышал вопль погибающих. Но разбираться в своих чувствах времени у него не было.
– Ракеты! – гаркнул он, повернувшись к сигнальщикам.
И еще два снаряда, давно ожидавшие своей очереди, ушли с направляющих и лопнули высоко в воздухе, развернувшись красочными шарами.
Ван-Гален вместе со всеми офицерами и солдатами батальона увидел цветные сигналы, вспыхнувшие над серой, задымленной равниной. Беспокойное чувство, бередившее его душу и тело последние два часа, вдруг исчезло. Дон Хуан выпрямился, расправил плечи и, только услышал хорошо знакомую дробь барабанов, увидел повелительный жест майора, тотчас пошел вперед решительным, скорым шагом, щерясь и щурясь, раздувая усы в холодном веселье.
Впереди батальонной колонны поспешали рабочие команды, держа на плечах многометровые лестницы, а перед ними, рассыпавшись цепью, бежали застрельщики. Егеря уже затеяли перестрелку с воинами, засевшими перед стенами. Пули начали посвистывать рядом с Ван-Галеном, кто-то закричал справа, завопил от боли и страха. Дон Хуан, не оборачиваясь, только махнул саблей и закричал: «Вперед! Вперед! Не упускать темпа!» Он не понял, что кричит по-испански, да это было уже и не важно в том грохоте, лязге, вое, так хорошо знакомом шуме большого сражения, что развернулось у стен Хозрека.
Егеря уже выбили защитников из мелкого рва, сами прыгали вниз, заканчивая штыками работу, не довершенную пулями. Мартыненко повел две роты к пролому – бесформенной груде камней, шевелившейся, словно живая. Там умирали в конвульсиях люди, попавшие под обломки: упавшие сверху и просто несчастливо оказавшиеся в этот момент поблизости. Поверх камней зияла дыра, и в ней тоже оставались люди, но живые, полные сил. Они готовились встретить наступающих русских, падали на колени за камни, ища упор для винтовки, подставляли сошки. Дон Хуан зажмурился. Залп оглушил его, ослепил даже сквозь закрытые веки. Тяжелый пороховой дым пополз, забираясь в ноздри, закричали раненые, завизжали довольные горцы. Ван-Гален услышал этот шум и понял, что и на этот раз он не умер. Он открыл глаза вовремя, чтобы увидеть, как Мартыненко уже карабкается на камни, а вслед за ним спешат рослые, разъяренные гренадеры.
Ван-Гален кинулся к стене, где рабочие уже приставили лестницу. Какой-то солдат обогнал его, прыгнул первым и ловко полез по ступеням, цепляясь левой рукой, а ружье держа правой. Ван-Гален не отставал, плечом словно подпихивая чувяки гренадера. Тот долез до самого верха, подтянулся, пытаясь запрыгнуть на парапет, и вдруг захрипел, качнулся и полетел вниз головой. Он подбил испанца, и тот секунду висел на одной руке, боясь, что пальцы его вот-вот разожмутся и он свалится вслед за убитым на утоптанную до каменной твердости землю. Но выправился, нашел опору, и сам уже кошкой ловко метнулся вверх, торопясь занять позицию, пока защитник не успел зарядить ружье или не догадались подбежать сбоку. Не глядя, выбросил саблю вверх, услышал стон, перекинулся мигом на стену. Двое бежали справа, он скользнул навстречу, полуприсел в выпаде, перебросил нападавшего через себя и тут же выронил саблю, упал на колени после удара в голову. Кровь хлынула в глаза, он приготовился умереть, но две руки подхватили его под мышки и поставили на ноги. Двое солдат держали его с боков, а последний противник, лежа навзничь, извивался, рычал, в то время как унтер Орлов с усилием вытягивал из его груди штык.
Ван-Гален оттолкнул солдат, обтер рукавом лоб и взмахнул саблей.
– A mi, canallas! [29] – и тут же поправился, будто бы кто-то рядом понимал по-испански: – Adelante, heroes rusos, al asalto! Hurra! [30]
Никто из солдат не понимал, что кричит чернявый драгунский майор, но перевод им не нужен был вовсе. Уставив штыки, они поспешили вслед за офицером, сметая на своем пути воинов Сурхай-хана…
Валериан ждал, сидя в седле. Вороной нервно всхрапывал, вскидывал голову, перебирал ногами. Конь слышал, как гудит земля, видел сизый дым, поднимавшийся чуть не к вершинам далеких гор, обонял запах смерти, доходящий из неизвестных ему пока мест, куда напряженно вглядывался хозяин.
Трубу Валериан спрятал. Она не могла проникнуть к стенам аула, перенести его немедленно туда, где хрипя, кашляя, надрываясь, умирали люди его отряда. Он был обречен ждать, когда же, наконец, те, кого он послал под пули, камни, ядра, кинжалы, шашки сумеют пробиться сквозь смерть. Он старался сохранить лицо бесстрастным, только кивком головы показывая, что слышит донесения адъютантов.
Молодые офицеры верхами, черные от дыма, вымазанные кровью, кто своей, кто чужой, подъезжали один за другим, рапортовали и снова поворачивали назад, исчезая на время, а кто-то, может быть, навсегда.
– Ваше сиятельство! Первая колонна у стен… Третья застряла – сильный огонь из окопа… Четвертая лезет в пролом… Вторая поставила лестницы, но поднялась только до парапета…
Валериан только сильней сжимал челюсти. Он слишком хорошо знал, каково приходится сейчас на приступе его гренадерам, мушкетерам и егерям. Ему в тысячу раз легче было бы самому карабкаться по ступеням, рубиться на стенах, чем так сидеть, ждать и надеяться.
– Ваше сиятельство! Четвертая ворвалась в пролом. Мартыненко в городе и на стенах… Ваше сиятельство! Они открыли ворота! Мартыненко держит вход в город!
Валериан выхватил саблю.
– В седло!
Штандарт-юнкеру уже подвели коня. Солодовников поднялся в седло, принял знамя, и тяжелый шелк заколыхался над головами.
– За мной, молодцы! За мной!
По узкой, щебенистой, желтой дороге Валериан поскакал к главным воротам Хозрека. Казачья сотня и несколько десятков приданных ему офицеров порысили следом, гикая от хмельного восторга в предвкушении схватки. Огромные, в два человеческих роста, обшитые железом створки ворот разошлись так, что два всадника могли проехать сквозь них одновременно. Толстый Мартыненко стоял впереди своих гренадеров, махал шпагой и срывающимся от счастья и усталости голосом вопил что-то невразумительное. Рядом с ним, опираясь на саблю, держался офицер с перевязанной грязными тряпками головой. Валериан узнал в нем испанца Ван-Галена и улыбнулся при мысли, что тот все-таки выжил. Но радоваться, торжествовать было еще рановато.