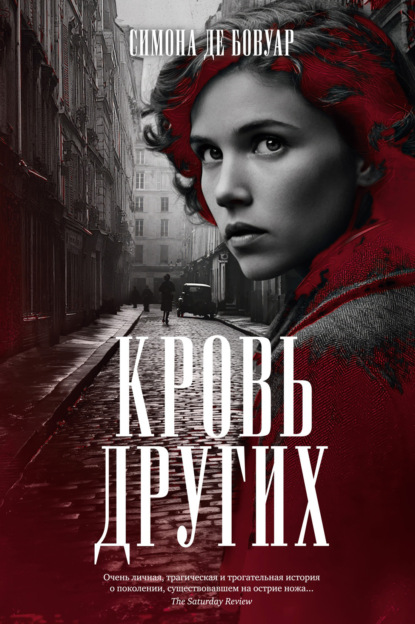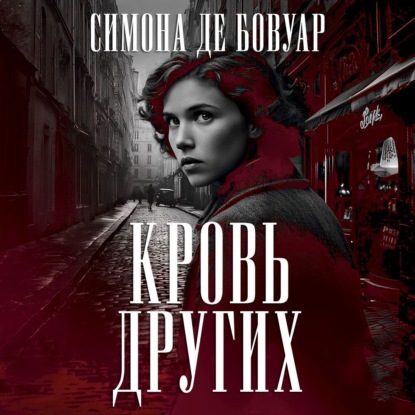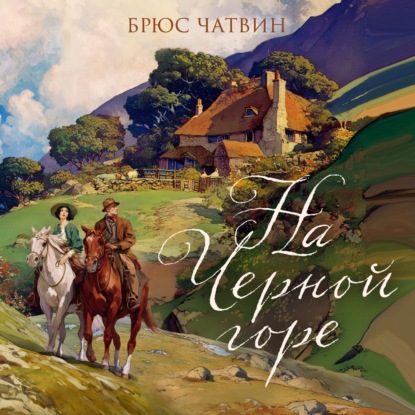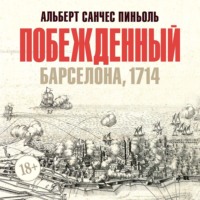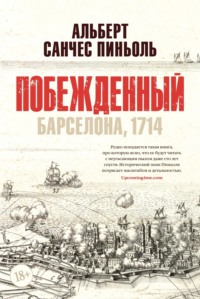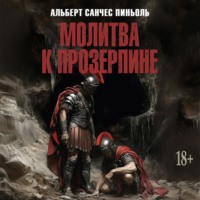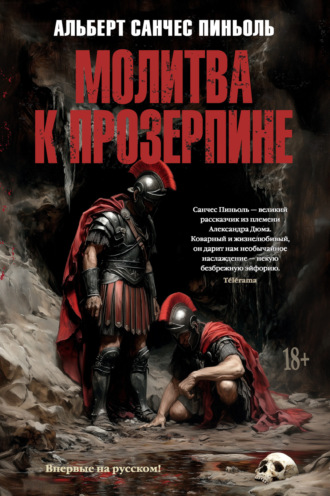
Полная версия
Молитва к Прозерпине
Моим отцом был Марк Туллий Цицерон (в Риме, Прозерпина, первенца часто называли именем отца, поэтому нас звали одинаково). И ты обязательно должна уразуметь одну истину: Цицерон был самым лучшим оратором и государственным деятелем, а следовательно, первым среди граждан Республики и главным ее защитником.
Поражение Катилины, в котором Цицерон сыграл не последнюю роль, вознесло его, моего отца, на вершину славы и сделало самым почитаемым гражданином. А теперь, Прозерпина, мне надо кратко изложить тебе историю Катилины, чтобы ты представила, каким был Рим незадолго до Конца Света, и смогла бы понять события, случившиеся впоследствии.
Катилина был молодым патрицием, имевшим все: власть, богатство, имя (и не простое, а доброе), славу (и к тому же хорошую), красивую внешность, молодость и здоровье… Однако в Риме это счастливое сочетание не возвышало личность, а скорее наоборот: избыток роскоши и привилегий погружал людей в трясину порока. Мой отец не раз говорил, что тот, кто всего лишен, хочет чего-нибудь добиться, а тот, кто владеет всем, всегда жаждет большего. Таким образом, Катилина был порочен по своей природе. А где еще можно предаваться порокам, как не в Риме? Чем больше играл Катилина, тем выше делал он ставки, и чем больше он предавался разврату, тем дороже ему обходились женщины. И в конце концов азартные игры и похоть разорили его. Совсем.
Поначалу он не придал этому значения. В Риме слово «разориться» имело разные значения в зависимости от того, был ли ты патрицием или плебеем. Все или почти все патриции залезали в страшные долги, и некоторое время Катилина поступал так же, как прочие представители его класса: брал деньги взаймы, а потом возвращал их при помощи политических интриг. Римский Сенат был прибежищем порока похлеще, чем самый грязный притон Субуры, а потому Катилина, будучи сенатором, продавал свое имя и свой голос в обмен на деньги и услуги.
Довольно долго он слыл самым отъявленным проходимцем в Риме. Катилина со своей компанией головорезов не пропускал ни одной таверны и ни одного публичного дома. Однажды во время одной из таких попоек они даже изнасиловали девственницу-весталку. (Да будет тебе известно, Прозерпина, что весталки были жрицами, хранившими святой огонь Рима. Их выбирали среди самых достойных девиц города, что делало подобное преступление, омерзительное само по себе, еще более отвратительным.) Бесстыдный безумец Катилина, естественно, плевать на это хотел, но римляне считали такой поступок страшным злодеянием. Ему чудом удалось избежать казни.
Помню, что я в ту пору неоднократно спорил с Гнеем-Кудряшом на уроках риторики по поводу изнасилования весталки. По его мнению, этот случай служил доказательством того, что главной угрозой для Республики был недостаток добродетели: судьба Катилины показывала, что порочные натуры склонны к предательству. Я возражал ему: корнем зла, как доказывал случай Катилины, являлся не порок, а долги, ибо без долгов он бы никогда не стал угрозой для Республики, а лишь для собственного здоровья.
Из-за такого поведения Катилины, который продолжал бесчинствовать, его долг вырос до колоссального размера. Никто уже не хотел давать ему взаймы ни асса, а это была самая мелкая из наших монет. Представь себе, Прозерпина: долги в то время надо было возвращать с процентами – двадцать процентов или даже тридцать. После разгрома Катилины мой отец предложил принять закон, согласно которому устанавливался бы более разумный предел – двенадцать процентов. Но тогда вопрос стоял по-другому: как мог Катилина расплатиться со своим огромным долгом при ставке тридцать процентов? Ответ предельно прост: никак. И таким образом развратник и негодяй превратился в безумного революционера.
Он начал посещать таверны не ради веселых попоек, но для того чтобы подготовить заговор, а в публичных домах не трахал шлюх, а устраивал тайные собрания. Катилина начал собирать вокруг себя недовольных и разорившихся людей: сначала таких же патрициев, как он сам, а потом людей более низкого звания и наконец плебеев, самый отъявленный сброд. Но всех их объединяло только одно: долги.
Он даже разрешил, чтобы к его мятежу присоединились рабы! Его последователи шли за ним, потому что деваться им было некуда: плебеев ждал дома только голод, а патрициев – бесчестье. В этом мире их всех преследовали долги, проклятые долги. И потому имя Катилины стало символом: «упразднить долги» – таким был его девиз и единственное требование его кампании. Нельзя не признать, что такая политическая программа была столь же простой, сколь и ясной, но ее воплощение в жизнь привело бы к краху всех наших устоев. Мне вспоминается ответ отца, когда я спросил его, что он думает по этому поводу: «Трагедия демагогических мер, о сын мой, заключается в том, что их можно принять только один раз. Если бы Катилина захватил власть и уничтожил долги, ростовщики, естественно, рассердились бы и прекратили давать займы. В таком случае вся система финансов Республики, как государственных, так и частных, рухнула бы: оборот денег бы прекратился, работникам перестали бы оплачивать их труд, а с рынков исчезли бы продукты. Голод и хаос. Но что еще хуже, без государственных денег как бы мы могли содержать легионы, если вдруг противник решил бы на нас напасть? Какими бы отвратительными нам ни казались эти жирные менялы, которые дают людям в долг на форумах, главная обязанность государственного деятеля – защита существующего порядка, каким бы несовершенным он ни был. – И затем он заключил: – Таков, Марк, главный парадокс общественной жизни: политика, как и военные действия, – это совокупность необходимых зол, от которых мы ожидаем получить некий положительный результат».
Как бы то ни было, речи Катилины с каждым днем имели все больший успех. Вокруг него сплотилась целая орда мерзавцев и пьяниц, ожесточенных несчастливцев, бедолаг, которые обвиняли во всех своих бедах Сенат и лиц, облеченных властью (никто из них не замечал никакого противоречия в том, что сам Катилина принадлежал к власть имущим и даже продолжал быть сенатором). Когда людям нечего терять, они перестают разумно мыслить.
Эти пройдохи начали мочиться на статуи сенаторов – противников Катилины, коих было большинство, и мазать своими испражнениями их мраморные лица. Поскольку никто их не останавливал, очень скоро их перестали удовлетворять нападения на образы этих людей, и мерзавцы стали нападать на них самих. Стоило им встретить какого-нибудь магистрата, как они избивали сопровождавших его рабов, а если бедняге не удавалось вовремя убежать, то доставалось и ему.
В то время в Риме восходили еще два светила в области политики: Юлий Цезарь и Марк Красс. Катилина предложил им присоединиться к своему заговору против Сената. В конце концов, Цезарь был так же порочен, как Катилина, и не менее щедр на обещания: все прекрасно знали его склонность к популизму. С Крассом дело обстояло иначе. Он был несметно богат. Кстати, Прозерпина, его богатство создавалось такими нечестными способами, что об этом стоит здесь упомянуть.
Красс начал скупать недвижимость в Риме, а если домовладельцы не соглашались на сделку, их дом страдал от случайного, скажем так, пожара. Пока из окон дома вырывались языки пламени, а хозяин рыдал, на сцене, подобно ясновидящей сивилле, появлялся Красс и снова предлагал купить дом, однако теперь лишь за четверть первоначальной цены. Что мог ответить ему несчастный домовладелец? Его дом на глазах превращался в груду пепла; любая сумма казалась ему лучше, чем ничего. Хитрость заключалась в следующем: Красса на самом деле интересовал не дом, а участок городской земли, цена которого в Риме могла достигать астрономических цифр. Потом он строил на этом участке шестиэтажный дом и сдавал в нем помещения ватагам пролетариев, единственным достоянием которых в этом мире была их детвора. Стоило только какому-нибудь дому загореться – случайно или нарочно, – Красс и его приспешники были тут как тут и предлагали хозяевам купить пожарище. Таким образом он безумно разбогател.
Но зачем было этому человеку, обладавшему завидным положением в обществе и несметными богатствами, связываться с обнищавшим демагогом Катилиной? Дело в том, что их объединяла беспредельная ненависть к Сенату. Всем было известно, что Красс нанял бы дрессировщика слонов, если бы тот мог гарантировать, что научит животное справлять большую нужду на головы сенаторов.
Однако ни тот ни другой – ни Цезарь, ни Красс – не согласился примкнуть к восстанию Катилины, так как оба сделали свои расчеты. Цезарь видел в Катилине – и совершенно справедливо – не революционера, а просто безответственную личность. А Красс привык вкладывать свои деньги и поднаторел в этих делах; он понял, что Катилина будет таким же плохим правителем, как игроком в кости. А значит, ставить на него не имело смысла – и это тоже была правильная мысль.
Несмотря на то что никто из политиков к нему не присоединился, Катилина продолжал плести заговор против Сената и Республики. Он хотел захватить здание Сената со всеми сенаторами внутри и объявить себя тираном, бессменным диктатором или кем-то еще в этом роде. Почему бы и нет? Кто мог бы ему помешать, если Сенат будет в его власти? Но Катилина забыл об одном препятствии, об одном человеке. О моем отце, Марке Туллии Цицероне, лучшем ораторе в мире со времен Демосфена[7].
Откровенно говоря, Прозерпина, решающее событие, которое вознесло моего отца на вершину славы, было весьма прозаическим, и это еще мягко сказано. Что происходило за несколько дней до того, как Катилина завершил свои приготовления для захвата Сената? Я тебе сейчас это объясню.
В Риме порок и добродетель сочетались между собой так же хорошо, как мед и вино в чаше, и доказательством этому может служить то обстоятельство, что любовница моего отца спала также и с Катилиной. (Мой отец, которого все считали праведником, предпочитал публично называть ее «подругой», ха-ха!) Эта женщина узнала обо всех приготовлениях к мятежу от самого Катилины, который был весьма нерадивым заговорщиком (и кому могло прийти в голову делиться планами по завоеванию Республики со шлюхой?). Она тут же рассказала обо всем моему отцу. Почему эта женщина так поступила? Ответ прост: Катилина был безумцем, а мой отец – нет; Катилина был разорен, а мой отец – нет; моего отца поддерживал Сенат, а Катилину – нет. А проститутки всегда выбирают деньги, власть и существующий порядок. Благодаря этому на следующий день, когда Цицерон предстал перед Сенатом, его язык был так же остро заточен, как рог критского быка[8].
Речь, которую он произнес перед сенаторами и перед изумленным Катилиной, открыла ему путь в Историю. Несмотря на то что Республика переживала в те дни самый серьезный политический кризис, Цицерон хранил спокойствие: вместо того чтобы наброситься на Катилину с проклятиями и оскорблениями, как поступил бы Катон[9], мой отец ограничился тем, что отчитал его, словно невоспитанного мальчишку. Он того заслуживал. «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?»[10] При помощи подобных фраз он добивался двух целей: с одной стороны, доказывал свое моральное превосходство над врагом, а с другой – и это было важнее всего – давал понять, что ему известны все детали заговора. (На самом деле он знал планы заговорщиков только в общих чертах, а может, и того меньше.)
Пока мой отец произносил свою речь, беспокойство Катилины очевидно возрастало. Немногие сенаторы, которые по причине своей беспринципности или порочности собирались поддержать его, один за другим поднимались со своих мест и от него отдалялись. Безусловно, такое поведение нельзя назвать благородным, но, как говорят циники, люди иногда путают осторожность и подлость. В конце концов Катилина не смог сдержаться: грубо выругавшись, он вышел из Сената.
А сенатору так поступать не следовало. Политика заключалась как раз в обратном: сносить поток диалектической речи, напичканной оскорблениями и клеветой, словно бурю с ее громом и молниями, а потом отвечать с лицемерной улыбкой. Катилине следовало действовать именно так, но он был не политиком, а просто болваном.
Это бегство означало полное его поражение. Поскольку план разоблачили и он, следовательно, потерял всякий смысл, Катилина скрылся в горах, где собрал маленькое войско – вернее, просто плохо вооруженное сборище преступников и негодяев, от которых во время военных действий не было бы никакого толка. Перед ними ставилась единственная задача: войти в Рим, изобразить на улицах поддержку мятежа и отвлечь внимание от второго отряда, которому предстояло ворваться в Сенат. Однако теперь, когда все планы рухнули, дух этой маленькой армии был подорван.
Тем временем мой отец зря времени не терял: Сенат дал ему неограниченную власть, чтобы подготовить силы для защиты Республики. Цицерон поручил командование консульской армией некоему Гаю Гибриде, не слишком знатному аристократу. (Выбор Цицерона определялся тем, что этот человек не мог затмить его славу: хотя мой отец был лицом гражданским и весьма далеким от военных дел, ему хотелось, чтобы поражение Катилины и спасение Республики во веки веков были связаны с его именем.)
Я и все мои приятели из благородных семей, естественно, записались в армию. Несмотря на молодость и крайнюю наивность, мне уже было известно, что римский патриций не должен пропускать ни единой возможности проявить себя и подняться на следующую ступенькуcursus honorum[11], то есть политической карьеры, как ее понимали в Риме. И вдобавок – кто же упустит возможность участвовать в битве, поражение в которой невозможно?
По правде говоря, мы рассчитывали увидеть не сражение, а просто охоту. Сторонники Катилины, к нашему удивлению, сражались лихорадочно и яростно, хотя не имели ни малейшей надежды на победу. Что могла сделать толпа плохо вооруженных негодяев против настоящих дисциплинированных легионеров? Катилина храбро сражался до конца, с самоубийственной отвагой. Этого никто не ожидал: мы поспорили, и большинство считало, что он скроется в Нубии или в каком-нибудь еще более отдаленном краю и покинет свое войско. Но он этого не сделал. Он принял смерть, возглавляя своих сторонников. Кто бы мог подумать! Против всех ожиданий, самая недостойная жизнь завершилась самой достойной смертью. Я не отрицаю, Прозерпина: люди могут вести себя непредсказуемо, особенно те, что живут на поверхности земли.
С другой стороны, речь моего отца в Сенате против Катилины стала одной из самых известных речей, произнесенных на латинском языке. Если ограничиться оценкой техники ораторского искусства, то мне кажется, что он писал тексты гораздо более совершенные. И, откровенно говоря, местами эта речь излишне манерна. Как, например, это нелепое «о времена, о нравы!», словно календарь был виновен в мятеже. И к тому же из этой цитаты как будто следует, что вооруженное восстание народа свидетельствует об упадке нравов. И представь себе, хотя в это трудно поверить, эти слова стали крылатым выражением. Если, например, какой-нибудь цирюльник, брея клиента, случайно царапал ему щеку или квартиросъемщик не вносил хозяину квартиры плату вовремя, потерпевший возводил взгляд к облакам и жалобно цитировал Цицерона: «О времена, о нравы!» Я только что сказал тебе об этом, Прозерпина, и не устану повторять: люди на поверхности земли очень странные. И измениться им не дано.
* * *Таков был он, мой отец, Марк Туллий Цицерон, первый среди римлян и самый благородный из них. Какой внушительный облик! Цицерон отличался высоким ростом и не стеснялся своей дородности. У него была бычья шея, большие руки крестьянина, привыкшего трудиться в поте лица на полях, могучий череп. Однако рот, из которого изливались его бессмертные речи, как ни странно, был небольшим, а губы тонкими. Он обладал низким грудным голосом и всегда отличался сдержанностью, а его глаза не только смотрели, но и слушали. А какая у него была голова! Все государство римское умещалось в этом мраморном черепе. Его присутствие всегда внушало трепет и сковывало волю любого человека, а меня даже более остальных. Разве мог я когда-нибудь забыть о том, что я сын самого Цицерона? Когда я открывал последнюю дверь в покои, где мне предстояло встретиться с ним, мне казалось, что я ныряю в ледяную воду. Вот каким был этот человек!
Так вот, как уже было сказано раньше, получив его послание, я немедленно вернулся в Рим, в район Субура, где мы жили. Я нашел отца в самом центре дома, то есть во внутреннем дворе, где он размышлял, наблюдая за рыбками в маленьком водоеме. Цицерон предложил мне присесть, и мы устроились друг напротив друга на ложах, которые стояли здесь же, во дворике.
– Я оставил в Риме отца, а возвратившись, вынужден делить его со всей страной.
В это время в Сенате уже начались дискуссии о том, чтобы присвоить ему титул отца отечества в знак благодарности за его деяния в защиту Республики во время кризиса, вызванного действиями Катилины. На лице его мелькнула улыбка: даже ему не удавалось скрыть, что такая почесть тешит его тщеславие. Из ложной скромности он сменил тему разговора:
– Как прошла битва?
Я поведал ему обо всем: о неожиданном упорстве сторонников Катилины, о их борьбе не на жизнь, а на смерть, а потом приказал привести в качестве свидетеля Сервуса с его отвислыми щеками.
– Даже Сервус, хотя он не более чем простой домашний раб, – сказал я, – заметил на поле боя одну важную деталь. Пусть он сам тебе объяснит.
Но Сервус был хорошо обучен и рта не раскрыл, пока не услышал приказа хозяина дома.
– Говори, – велел ему Цицерон.
И тогда Сервус объяснил, что все погибшие получили ранение в грудь, никто из них не пытался бежать. Мой отец задумался, не говоря ни слова, сделал пару глотков. Я не смог удержаться:
– Отец, в Сенате говорили, что последователи Катилины – это подонки общества. Но негодяи не сражаются, они спасаются бегством. А эти люди боролись, я тому свидетель.
Цицерон молчал. В тишине дворика слышалось только журчание воды в водоеме.
– Они считали свое дело правым и поэтому сражались до последнего, – продолжил я. – Очень немногие сдались в плен. Они не искали нашего снисхождения! И вывод, который напрашивается из этой истории, весьма серьезен: возможно, это были не преступники, а просто люди, лишенные самого необходимого. Я не стану возражать: их вождь отнюдь не мог считаться образцом добродетели, но они последовали за ним от безнадежности, потому что никто не указал им иного выхода.
Мой отец по-прежнему молчал.
– Мы убили несколько тысяч повстанцев, – продолжил я, – но, когда ростовщики снова начнут давать деньги под большие проценты, опять обнищают тысячи и тысячи людей и появится новый Катилина, чтобы их возглавить. Отец, – заключил я, – раны на груди мятежников говорят, что они нам не враги. Враг Рима – не толпа сбившихся с праведного пути плебеев, а бесконтрольное ростовщичество.
Цицерон не согласился со мной, но и не возразил. Он сказал:
– Твоя мысль столь же интересна, сколь справедлива. Однако я поставлю перед тобой другой вопрос, который считаю более важным: Марк, как ты думаешь, что погубило Катилину?
– Совершенно очевидно, – ответил я, ни минуты не сомневаясь, – непомерное самомнение, порочность, безумие и коварство.
– Нет. Катилину отличали все эти черты, но погубила его неспособность измениться. Рим полон безнравственных патрициев, и Катилина был всего лишь одним из них. Мы же не можем убить всех этих людей, правда? Поэтому мы тайно предложили ему тысячу соглашений, тысячу договоров, чтобы избежать насилия. Я всегда настаивал на том, что наихудший мир предпочтительнее, чем самая замечательная война. Однако он не захотел принять наши условия.
– Но почему?! – воскликнул я.
– Потому что не мог. Он так далеко заплыл в океане порока, что был не в состоянии вернуться в порт добродетели. Если бы он решил измениться, исправиться, то сейчас был бы так же жив, как мы с тобой. Представь себе, что он бы явился ко мне или к сенаторам, которые больше других ненавидели его, и сказал нам: «Помогите мне». Неужели ты думаешь, что мы бы ему не помогли? Нет, этот самый недостойный из оптиматов[12], худший из лучших, получил бы от нас помощь! Каким бы ни был Катилина, он все равно принадлежал к нашему кругу. Любой выход предпочтительнее войны, и цель политики – избежать войны гражданской. – Цицерон тяжело вздохнул. – Но Катилина не сумел измениться, и неспособность преобразиться привела его к гибели. Он предпочитал разрушить Рим, вместо того чтобы попробовать изменить себя. Такова душа человеческая.
Он замолчал и помахал рукой перед носом, словно отгоняя какую-то вонь. Этот жест означал: «Забудем о Катилине». Цицерон напустил на себя важный вид и торжественно произнес:
– Марк, я велел тебе немедленно вернуться в Рим, потому что хочу поручить тебе важное дело.
Эти слова уже касались меня лично, и я заерзал на своем ложе.
– Я хочу, чтобы ты отправился в провинцию Проконсульская Африка[13]. Тебе поручается расследовать один случай, который может стать очень важным как для судьбы Республики, так и, возможно, для всего мира.
Как ты можешь себе представить, Прозерпина, я стал расспрашивать его о своей задаче.
– Ходят слухи, что в глубине провинции происходит нечто странное, – сказал он. – Это лишь слухи, но достаточно обоснованные, если они достигли моих ушей. И согласно им, там появилась мантикора. Один греческий географ писал, что у этого чудовища туловище льва, змеиный хвост и человеческая голова. В пасти его три ряда зубов, и этому монстру очень нравится лакомиться человечиной. – Цицерон еще больше откинулся на своем ложе, точно искал опору для спины, чтобы закончить свое объяснение. – Мантикора интересует нас из-за одной своей особенности: она появляется только во времена, предшествующие гибели великих империй. Гомер упоминает о появлении этого чудовища за несколько дней до падения Трои. Персы, со своей стороны, поняли неизбежность краха их империи, потому что заметили мантикору у палатки Дария ночью перед битвой при Гавгамелах[14], в которой его противником был Александр Македонский. И даже с нашими заклятыми врагами, карфагенянами, случилось нечто подобное. Моему отцу довелось еще встретиться с ветеранами последней Пунической войны[15]. И все они утверждали, что видели, как чудовищное животное ходило вдоль стен города за несколько дней до решающей атаки, и это зрелище подорвало боевой дух защитников Карфагена.
Из уважения к отцу я не расхохотался, но не смог удержаться от шутки:
– Я бы с удовольствием отправил эту самую мантикору, или как еще ее там называют, к Гнею-Кудряшу, чтобы победить его во всех наших дискуссиях о грамматике.
Мой отец ответил мне неожиданно сурово:
– Не смейся! Хотя кажется, будто эту историю придумали, чтобы пугать детвору, все великие авторы, все без исключения, упоминают мантикору. И сейчас одно такое существо появилось к югу от развалин Карфагена.
– Но отец, – возразил я ему раздраженно, – даже если эти слухи верны, какое нам до них дело? На свете нет больше ни одной империи, которая могла бы соперничать с нами, остался только Рим.
– Вот именно.
Он замолчал. И это было молчание человека, который раздумывает о серьезной угрозе.
– Так ты не шутишь? – осмелился нарушить его молчание я. – Ты отправляешь меня в Африку, чтобы проверить какие-то нелепые слухи?
Я не мог поверить своим ушам: отец хотел, чтобы я отправился в далекую затерянную провинцию, путь куда, наверное, был нелегким, с единственной целью – провести совершенно нелепое расследование.
Признаюсь тебе, Прозерпина, причиной моего раздражения в значительной степени являлось честолюбие. Отец в то время оказался на вершине славы, а я был его сыном. После поражения Катилины все его хвалили, осыпали почестями, предлагали важные посты. Оставшись рядом с ним, я тоже, несомненно, мог получить определенную выгоду. Если же, напротив, пока он будет пожинать плоды своей победы, я окажусь далеко, из всего этого потока привилегий на меня не упадет ни одной капли.
Но что мне оставалось делать? Я не мог отказаться, не мог протестовать и даже возразить ему не мог: в Риме существовала непререкаемая норма –patria potestas, то есть власть отца, которая считалась безграничной и святой. А если твоим отцом был Цицерон – тем более.
– Я снабжу тебя деньгами, рекомендательными письмами и транспортом. С этим не будет никаких проблем, меня волнует только одно: обеспечить тебе хорошую охрану.
Всем тщеславным юнцам свойственно хорохориться, а я к тому же рассердился и поэтому заявил довольно нагло:
– Мне не нужна никакая охрана, кроме моего меча.
Цицерон не смог удержаться от смеха:
– Марк, тебе многое хорошо дается, но с мечом ты явно не в ладах; твой учитель говорит, что ты с этим оружием в бою так же бесполезен, как молот, от которого осталась одна рукоять.
Он снова засмеялся, а потом напустил на себя серьезный вид и заявил:
– Я хочу, чтобы тебя сопровождал ахия.