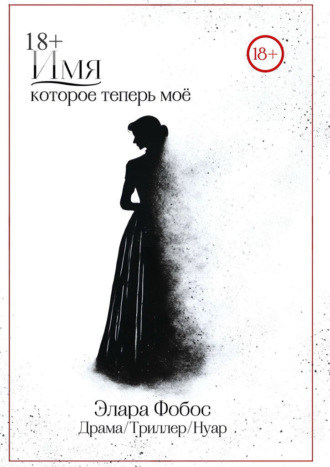
Полная версия
Имя, которое теперь моё
– Мне сообщили, что вы забыли, кто платит.
– Мы не забыли, – проговорил один. – Просто правила изменились.
– Нет. Изменились только вы. Правила не трогают.
Она сделала глоток коньяка из узкой фляги. Та самая, что раньше носил отец, достала бумаги. Положила на стол.
– Опоздания. Двойные накрутки. Попытка заменить три партии опиума травами. Я уважаю креатив, но не глупость.
– Это не было злым умыслом. Просто… сложные поставки, новое правительство, налоги…
– Вы не в парламенте. Вы в подвале. Тут налоги платятся либо вовремя, либо кровью. Слово «кровь» она произнесла так, как будто оно стоило дороже, чем их жизни. Один из них пошевелился. Поднял руку.
– Леди Вивьен…
Она взглянула. Резко. Молча. И он замолчал.
– Вам дали шанс быть рядом со мной. Не стать мной – это невозможно. Но хотя бы рядом.
Она встала. Медленно.
– И вы думали, что сможете торговаться?
Один засмеялся. Низко. Нервно.
– Вы думаете, вы стали как он?
Пауза. Она достала пистолет. Положила на стол. Рядом с бокалом.
– Я стала хуже. Потому что он учил, но жалел. А я – нет.
Она кивнула охраннику. Троих вывели. Двое остались.
– Вы – будете работать. Без вариантов. Без задержек. Без недоумков. Следующее письмо с подписью в конце будет не от меня – от моего адвоката.
Она одела перчатки. Медленно. Взяла флягу. Сделала глоток. И ушла. Не оборачиваясь. В коридоре ветер тронул край её пальто. Она шла, как будто под ногами не пол – лед. И каждый шаг говорил: я не дочь Генри. Я его наследие. И ваш конец.
Через два месяца. Утро было холодным. Ноябрьским. Сероватым. Таким, когда даже город дышит тише. Генри встал рано. Слишком. На кухне уже кипел чайник, сигарета догорала в пепельнице, окно было приоткрыто – как всегда, чтобы не застаивался дым. Вивьен вошла, на ней было шёлковое домашнее платье и плотно завязанный халат. Волосы собраны. Шла босиком. Он сидел за столом. Рубашка расстёгнута на две пуговицы. Взгляд в окно. Чашка полная. Остывает. Не пьёт. Смотрит, будто что- то ждал.
– Слишком рано, – сказала она, подходя.
– Время – не инструмент. Оно просто течёт. Не зависит от того, когда я встаю.
– Обычно ты так философствуешь только после трёх рюмок.
– Сегодня – исключение.
Она молча налила себе чаю. Села, напротив, не спрашивала, ждала.
– Есть один человек, – сказал он наконец. – Джонатан Хейл. Мы работали с ним несколько лет. Он не из наших. Торговля металлом, документы, контракты. Но он всегда был полезен. Связывал с людьми, которых мы не могли касаться напрямую. Спокойный. Умный. Тихий. Без амбиций – казалось.
– Но?
– Вчера пришла бумага. Один из его людей пытался переписать пункт в контракте. Незаметно. Без подписи.
– И?
– Это значит, что он думает, будто может управлять изнутри.
Вивьен сделала глоток. Медленно. Поставила чашку.
– Я пойду.
– Нет.
– Я справлюсь.
– Я знаю. Но я сам.
Пауза. Они смотрели друг на друга.
– Ты слишком близка к ним. Они уже чувствуют, что тебя надо бояться. А меня – давно не боятся. Я должен напомнить.
– А если это ловушка?
Он усмехнулся.
– Тогда это будет красиво.
– Это не смешно.
– Я и не смеялся.
Она опустила глаза. Медленно провела пальцем по краю чашки.
– Возьми Гарольда.
– Возьму. Но снаружи. Это личный разговор. Я должен посмотреть ему в глаза. Впервые – за пять лет – я хочу услышать ложь прямо.
Он встал. Подошёл к зеркалу. Застегнул пуговицы. Поправил запонки.
– Не задерживайся, – сказала она, не глядя.
– Не собираюсь.
– Возьми коньяк.
– Уже в кармане.
Он подошёл к двери. Остановился. Повернулся. Посмотрел на неё.
– Если не вернусь вовремя…
– Не продолжай, – перебила она. – Просто иди. Я всё знаю.
Он кивнул. Вышел. Дверь закрылась. Она сидела. Чашка дрожала в руке. Впервые за много лет – её пальцы дрожали. Потому что в этом «я всё знаю» было всё. И она действительно знала.
Склад был новый. Лицо у него – приличное. Бетон. Чистая табличка. Даже лампы не мигают. Всё слишком правильно. Это настораживало. Гарольд остался снаружи, по приказу. Генри прошёл внутрь один. Шёл медленно, как всегда. Спина прямая, пальто не застёгнуто. Под ним – всё, что нужно, если разговор пойдёт в кровь. Хейл ждал. Чистый костюм. Чашка чая. Улыбка. За спиной – двое. Молодые. Руки в карманах. Генри остановился в трёх шагах. Не ближе.
– Ты сам, – сказал Хейл, чуть удивлённо.
– Всегда. Когда речь идёт о чести.
– А ты ещё веришь в это слово?
– Верю в последствия.
Пауза. Молчание.
– Ты принёс бумаги? – спросил Хейл.
– Принёс. Но мне не бумаги нужны. Мне – правда.
– Какого рода?
– Ты хотел украсть. Через подпись. Через тень. Тихо. Не в лоб.
– Ничего серьёзного. Мы могли бы обговорить.
– Мы не говорим, когда уже поставлено имя. Мы молчим и исправляем.
Генри достал флягу, один глоток, поставил на ящик рядом.
– Ты был полезен, Джонатан. Очень. Но ты начал думать, что ты – сам себе хозяин.
– А я не могу быть?
– Нет.
Один из молодых за спиной Хейла пошевелился. Плохо. Нерешительно. Генри не посмотрел.
– Не делай глупостей. Пусть стоят. Пусть слушают, как уходит их покровитель.
Хейл сжал губы.
– Ты пришёл убить меня?
– Нет.
– Тогда что?
– Посмотреть в глаза тому, кто предал. Один раз. Перед тем, как исчезнешь.
Он повернулся. Шагнул к выходу. В этот момент – щелчок. Глухой хлопок. Никаких криков. Генри споткнулся. Резко. Повернулся наполовину. Ударился спиной об ящик. Сначала – тишина. Потом – пятно. Тёмное. Густое. Он посмотрел вниз. На грудь. Пуля. Чётко. Под рёбра. Он сел. Не упал. Сел.
– Гарольд… – выдохнул. Но тихо. Гарольд был снаружи.
Хейл подошёл. Тот самый молодой стоял позади, с пистолетом, и не понимал, что только что сделал.
– Жаль, – сказал Хейл. – Мы могли ещё поработать.
Генри посмотрел на него снизу- вверх.
– Ты – всё испортил.
– Ты знал, чем рискуешь.
– Я знал, что ты слаб.
Он достал флягу. Остаток – в рот. Глоток. Последний. Он медленно опустил руку. В глазах – не боль. Разочарование. Через несколько минут его тело всё ещё сидело у стены. Прямое. Как будто он просто смотрел. В последний раз. Когда прозвучал выстрел, Гарольд не сразу бросился. Он знал Генри. Знал, что не терпит паники. Но когда тишина затянулась, он выскочил из машины.
Рывок. Металл двери. Гул. Склад был мёртв. Запах пороха – свежий. Генри – у стены. Сидел. Как будто отдыхал. Но по лицу было видно – ушёл. Плечи расслаблены. Грудь больше не поднимается. Глаза – открыты, но не смотрят. Он знал, куда смотреть. Внимание – не на рану. На руку. В ней – фляга. Почти пустая. Гарольд медленно опустился. Дотронулся до запястья. Холодно. Взял флягу и положил в карман. Он не плакал. Только выдохнул.
– Сэр…
Внутри его пиджака, на подкладке – конверт. Плотный, тяжёлый. Надпись:
«Для Вивьен. Только если я не вернусь.»
Он не вскрыл его сразу. Просто держал в руке, пока снаружи поднимался холодный ветер, а в небе солнце пробивалось через дымку. Позже, когда тела уже не было, когда склад стоял закрытый, когда улицы начали жить своей жизнью – Гарольд передал письмо и флягу. Без слов. Она взяла. Тоже – без слов. Открыла в комнате, где всегда пахло табаком и тишиной.
Вивьен,
Если ты читаешь это, значит, я не дошёл обратно. Неважно, как. Важно – что я знал. И знал давно. Что рано или поздно этот путь заберёт меня. И я всегда знал, что ты останешься. Одна. Но не сломанная.
Ты – моя работа. Моя ошибка. Моя гордость. Ты выросла на холоде, но не стала пустой. Ты научилась тому, что я пытался спрятать. Ты стала мной. А потом – стала лучше.
Я не сказал тебе многих слов. Я не умею. Но знай – ты держала меня на плаву все эти годы. Не Гарольд. Не сделки. Не оружие. Только ты.
Я оставляю тебе всё. Бизнес. Людей. Связи. Не потому что ты – моя дочь. А потому что ты – единственная, кто сможет держать это в руках и не сломаться. Я верю в тебя так, как никто не верил в меня.
Если станет тяжело – не прощайся. Молчи. Ты умеешь. Но помни: я был рядом. Всегда. Даже в молчании. Я люблю тебя.
Г.
Она прочла письмо один раз. Потом – второй. Потом положила его в ящик. Без слёз. Без слов. И только тогда – позволила себе сесть и заплакать.
Погода с утра была вязкая, серая. Туман висел низко, цеплялся за ветви деревьев, за пальто людей, за лица. Дождь не лил, а моросил – мелко, едко, как насмешка. Такой дождь промокает не сверху – он пропитывает изнутри. Кладбище стояло на окраине. Старые деревья, кованая ограда, скрип ворот, земля – тёмная, мягкая, словно знала, кто ляжет в неё. Могила была уже открыта. Чёрная. Без поэтики. Просто яма. Подготовленная, как отчёт. Гроб стоял на подставках, матово- чёрный, гладкий. Без блеска. Без украшений. На памятнике только имя. Без даты рождения. Только дата смерти.
Генри не терпел сентиментальности. Даже в смерти. Людей собралось немного. И слишком много. Все свои. Все – в прошлом его враги, его партнёры, его страх. Стояли молча. Взгляды в землю. Кто- то курил, пряча сигарету в ладони. Кто- то держал руки за спиной, чтобы не дрожали. Один мужчина даже снял перчатки – из уважения. Кожа на руках была красной от холода. Гарольд стоял справа. В чёрном костюме. Лицо – каменное. У него в руке – зонт. Он держал его над Вивьен. Она не просила. Просто стояла. И он знал, что вот в этот момент она нуждается не в укрытии от дождя, а в стене между ней и остальными. Он – и был этой стеной. Вивьен стояла перед гробом. Пальто – длинное, плотное, почти военное по силуэту. Волосы собраны назад. Без прядей. Без романтики. Перчатки – из мягкой кожи. Под ними – тонкие пальцы, сжимавшие крошечную флягу, его флягу. На лице – ничего. Даже не пустота. Контроль. Губы сжаты. Глаза смотрят чуть выше крышки. Она не опускает взгляд. Ни на секунду. На ней не было траура. На ней была власть. Та, что остаётся, когда уходит тот, кто учил её носить её молча. Священник говорил что- то. Гарольд слушал. Остальные – делали вид. Она – нет. Она не слушала. Её дыхание было ровным. Руки – не дрожали. Когда гроб начали опускать, Вивьен сделала шаг вперёд. Один. Все расступились. Она подошла. Медленно. Как будто не по грязной земле, а по мрамору. Нагнулась. Открыла флягу. Сделала один глоток. Без гримасы. Без жеста. Без взгляда. Упустила флягу и вылила на край гроба остатки коньяка. Туда, где крышка почти исчезала в земле.
– Последний, – сказала она. Тихо. Только Гарольд услышал. И повернулась. Она не смотрела на могилу. Не плакала. Не вздохнула. Просто ушла. Точно. Шаг за шагом. И каждый шаг звучал, как обещание:
«Я теперь – ты.»
Глава 5. Имя, которое теперь моё
Вивьен стояла ещё несколько секунд, не двигаясь. Его слова – глухой фон. Вода уже впиталась в мех, тускло капала с подола брюк. Но она не чувствовала холода. Только взгляд, отпечатавшийся где- то внутри. Он снова поднял глаза, уже чтобы ещё раз извиниться – и тут же опустил их. Её молчание оказалось тяжелее крика.
– Я… я всё уберу, – пробормотал он и отступил, увлекая за собой ведро, в котором осталась вода, отражающая лампу, как крошечное озеро. Он скрылся за дверью служебного помещения – как будто его и не было. Вивьен осталась одна. Она медленно посмотрела вниз. Рука коснулась края полушубка. Промокло насквозь. Кончики волос – влажные, слипшиеся. Пальцы – холодные, но не дрожат. Она вздохнула. Тихо. Почти не заметно. Потом развернулась и направилась обратно в зал. Мэрион подняла глаза, заметив мокрую ткань.
– Что случилось?
– Вода, – коротко.
– Убила бы того, кто тебя так окатил, – хмыкнула та. Вивьен не ответила. Только села. Закурила. Выдохнула в сторону. И сказала:
– Завтра я вернусь сюда одна.
Мэрион удивлённо приподняла бровь.
– Почему?
– Не знаю.
Но она знала. Просто не умела говорить о таких вещах.
На следующий день она пришла в то же время. Села за тот же столик. Заказала тот же коньяк. Смотрела в сторону коридора. Не явно. Краем глаза. Он появился ближе к вечеру. В той же серой форме. Шёл с ведром. Она не подошла. Не позвала. Просто наблюдала. Он не смотрел в её сторону.
Она приходила по- разному – иногда в шесть, иногда к девяти, иногда за полчаса до закрытия. Но всегда одна. Без слов. Без звонков. Без поводов. Просто появлялась в зале, как тень от прежней себя, и садилась за свой столик, где официанты уже знали, как поставить бокал, как подать сигареты, какую пепельницу выбрать. Она больше не открывала меню. Пальцы легко обводили край бокала, как будто ловили ту вибрацию, что не слышна другим. Она не смотрела по сторонам, не выискивала его взгляд – но всегда чувствовала, когда он входил. По тому, как воздух чуть сдвигался, как будто сам ресторан делал вдох. Он никогда не смотрел на неё прямо. Проходил мимо, не задерживаясь. Его ботинки были немного скошены, шнурки – старые, на рубашке под серой курткой – всегда один залом, на правом плече. Он был неаккуратен, но не неряшлив. Он двигался с такой точностью, как будто не хотел быть частью ничьего взгляда. И именно поэтому она не могла не замечать его. Он стал частью её ритуала – такой же важной, как тишина в начале вечера или вкус первого глотка коньяка. Она пила медленно, курила молча, и ждала, хотя никогда бы себе в этом не призналась. Иногда он проходил мимо, и на его лице был тот же выражение, что однажды было у Генри – усталость, смешанная с достоинством, которое не выставляют напоказ. Он был не похож на отца. Он был… родной. Но не по крови. По ощущениям.
Однажды она задремала. Это был особенно тяжёлый день, и в её пальцах коньяк отдавался не терпкостью, а горечью. Она опустила голову, опёрлась подбородком на ладонь, и на несколько минут выпала – не в сон, а в забвение. Сигарета тлела в пепельнице, огонёк медленно умирал. Он вышел в этот момент, увидел её. Не подошёл, не окликнул. Просто остановился в нескольких шагах и стоял. Минуту. Две. Его лицо было неподвижным, как у статуи, но в глазах – тревога. Не из страха. Из участия. Потом она открыла глаза. Медленно. Увидела его. Они встретились взглядами на секунду – и он сразу опустил глаза. Как человек, пойманный за тем, чего не должен был чувствовать. Она не сказала ни слова. Только выпрямилась и закурила новую сигарету, как будто ничего не произошло. Но на следующий день она пришла на час раньше.
В тот вечер она попросила у официанта салфетку. Он принёс, вместе с обычным коньяком. На салфетке уже было написано имя. «Робин». Чётко, аккуратно, без излишеств. Она не удивилась. Прочитала, как читают имя на надгробии – тихо, без страха. Имя легло в неё, как будто всегда там было, просто спало. Она оставила салфетку на столе, подложила под бокал. И не спрашивала больше. Имя теперь было её.
Иногда он выходил позже обычного, и она начинала злиться на себя за ожидание. Но когда он появлялся – злость исчезала. Он никогда не задерживался. Никогда не подавал виду, что знает. Но теперь в его движениях появилась осторожность – не робость, а будто он несёт внутри себя что- то хрупкое. Вивьен замечала это. И это становилось частью её вечеров. Коньяк, сигареты, его шаги, его глаза, его присутствие, не нарушающее дистанции, но живущее где- то совсем рядом. Её одиночество больше не было одиночеством. Оно стало – разделённым молчанием.
Ресторан был почти пуст. Поздний вечер. Зал погрузился в ту самую тишину, которая наступает после двух последних столиков, после того как официанты перестают играть в услужливость и просто существуют на фоне. Вивьен сидела у окна, как всегда. Перед ней – недопитый бокал, сигарета, затушенная до половины, и тишина, которую она не делила ни с кем. Робин появился у противоположной стены. Он выносил мусор, но двигался медленно, как будто оттягивал шаг. Он знал: она здесь. Она всегда здесь, по четвергам, в это время, с этим выражением лица, в котором нет ни тени мягкости. Но в котором он давно нашёл то, чего не понимал – тягу. Ресторан медленно замирал. Последние звуки фарфора и серебра растворялись в тишине. Люстры тускнели. Воздух становился плотным, пропитанным древесным спиртом, табаком и предчувствием. Вивьен сидела у окна, с неполным бокалом, с полупустой пепельницей. Коньяк был тёплым, как чужая рука, которую нельзя удержать. Он появился без звука. Обычные шаги. Обычные движения. Только в этот раз – с чем- то решённым в осанке. Подошёл медленно, остановился в двух шагах. Чуть поклонился.
– Прошу прощения за дерзость, мэм. Я не хотел нарушить ваш покой.
Вивьен не отреагировала сразу. Её пальцы легко коснулись бокала, будто пробовали, осталась ли в нём сила. Затем подняла на него глаза. Медленно. Спокойно.
– И всё же вы здесь.
Он выдержал паузу.
– Бывают моменты, мэм, когда молчание становится… тяжёлым. Я, признаться, не умею говорить красиво. Но хотел бы попробовать – один раз.
Она чуть склонила голову, разглядывая его. Не грубо. Просто как вещь, которая неожиданно выдала звук.
– Вы много наблюдали?
– Простите, если это было заметно, мэм. Я лишь… не мог иначе. Вы слишком – вы.
Легкий вдох скользнул по её губам. Она улыбнулась – едва, чуть насмешливо.
– Это не ответ.
– Возможно, это всё, что я способен сказать, – ответил он мягко. – Ваше присутствие здесь, мэм, стало частью моего дня. Я… не знаю вашего пути, и не смею претендовать ни на внимание, ни тем более на симпатию. Но я хотел бы, если позволите, просто быть рядом. Без лишнего. Если вдруг… вам понадобится молчание не в одиночестве.
Вивьен сделала глоток. Поставила бокал. Пальцы откинулись на подлокотники кресла.
– Вы всегда были столь… благородны? Или я – исключение?
Он улыбнулся. Тихо. Без вызова. Почти по- детски.
– Вы не исключение, мэм. Вы – причина.
Она замолчала. Смотрела на него почти с любопытством. Как на человека, который не испугался стучать в запертую дверь.
– Вам не стоит здесь задерживаться. Вас могут отругать за излишнюю галантность.
– Уволить, скорее, – мягко заметил он. – Но, полагаю, это был бы достойный повод.
Она чуть усмехнулась. И сказала почти шепотом, без смеха, без игры:
– Ваше имя?
– Робин, мэм.
– Я запомню. Я не забываю тех, кто говорит с достоинством.
Он слегка поклонился, как джентльмен, воспитанный на тех книгах, которые никто больше не перечитывает.
– Благодарю, мэм. И… спокойного вам вечера.
– Спокойствие – понятие относительное, – сказала она, и снова взяла сигарету.
Он понял, что это – прощание. И ушёл. Тихо, как пришёл. А она, оставшись одна, закурила – с той неспешностью, в которой было не удовольствие, а способ не чувствовать.
Они не стали близки – не сразу. Просто появились разговоры, как будто воздух между ними начал давать трещины. Вивьен продолжала приходить по четвергам. Сидела за своим столом, как всегда, с коньяком, сигаретой и тем выражением лица, которое не предполагало интереса. Но когда Робин оказывался рядом – ей не нужно было менять выражение. Он был тем, кто не требовал перемен. Он просто был. Один из вечеров. Всё как обычно – ресторан почти пуст, мягкий свет, чуть слышный гул разговоров за дальними столами. Он появился в зале под предлогом замены ваз с орхидеями. Подошёл к её столику. Остановился, когда уже собирался пройти мимо.
– Мэм, не сочтите за вмешательство… Вы читаете газету или смотрите в неё?
Она не подняла глаз.
– Разве вы видите разницу?
– Иногда да. Особенно когда смотрит тот, кто думает, что не смотрит.
– Интересное наблюдение для… уборщика.
Он улыбнулся.
– Привилегия быть незамеченным, мэм. Я вижу многое.
Она медленно подняла взгляд, прищурилась.
– И что вы видите во мне, раз уж вы такой наблюдательный?
Он не растерялся.
– Женщину, которой наскучили ответы. И потому она предпочитает вопросы, на которые нельзя ответить сразу.
Она сделала глоток. Движение было изящным, как у балерины, вставшей на носок.
– Вы много думаете для того, кто моет полы.
– Думаю, потому что не спрашиваю. А не спрашиваю – потому что боюсь ответов. Особенно ваших.
Она чуть кивнула, почти утвердительно. В её глазах было одобрение – не как комплимент, а как признание того, что он достоин продолжить говорить.
– Вы всегда говорите такими словами, Робин?
– Только с вами, мэм.
Она приподняла бровь.
– Это должно меня польстить?
– Это должно вас насторожить.
Она усмехнулась. Улыбка вышла медленной, почти ленивой, но не пустой.
– Я уже насторожена. Всегда. И во всём.
Он кивнул.
– Я чувствую это. Вы – как острый край бокала. Красивы. И опасны, если дотронуться не теми руками.
Она не ответила. Только закурила новую сигарету, чуть прищурившись от огня. Несколько секунд молчания.
– Вы боитесь меня, Робин?
Он посмотрел на неё – впервые по- настоящему прямо.
– Да, мэм.
– И всё равно говорите?
– Потому что бояться – не значит молчать.
Она сделала затяжку. Откинулась на спинку кресла.
– Хороший ответ.
– Я старался.
– Не старайтесь. Это утомляет.
– Тогда я просто… останусь рядом. Если вы позволите.
Она долго смотрела на него. Не пронзительно. Просто… видела. Сканировала. Взвешивала. Потом кивнула. Почти незаметно.
– Только не становитесь привычкой.
Он кивнул тоже.
– Я умею быть тенью, мэм.
Она снова затянулась.
– Надеюсь, хорошей.
Всё происходило не сразу. Они продолжали встречаться, разговаривать понемногу – по четвергам, наедине, под покровом ламп и затухающего вечера. Он больше не робел, но не позволял себе лишнего. Она слушала его – не как человека, которому доверяют, а как голос, который интересно различать в шуме привычного мира. В один из вечеров, когда зал уже почти опустел, и официанты начали гасить дальние лампы, Робин подошёл ближе обычного. У неё закончился табак. Он увидел это, не спрашивая. Просто вышел из- за стойки, приблизился и положил на край её стола портсигар – потёртый, чуть изогнутый, старый.
– Позвольте, мэм. У меня осталась одна хорошая.
Она чуть приподняла бровь.
– Благородство – не ваша профессия, Робин.
Он улыбнулся.
– В вашем присутствии, мэм, всё звучит неуместно. Даже вежливость.
Она взяла сигарету, и в этот момент их пальцы соприкоснулись. Неосознанно. Он не успел отдёрнуть руку. Она – не убрала свою. Мгновение. Короткое, как звук падения капли на мрамор. Но оно осталась – в ней. В нём. В пространстве между. Он отдёрнул ладонь.
– Простите, мэм.
Она не ответила сразу. Вставила сигарету в держатель, зажгла, сделала затяжку.
– Всё в порядке. Но не повторяйте. Контакт – вещь хрупкая. Особенно если он… не разрешён.
Он кивнул.
– Понимаю, мэм.
И ушёл. Она смотрела ему вслед, не выдыхая дым. Взгляд был пустой. Почти. Но в глубине выросла тонкая трещина. Она была не против. И именно это – пугало больше всего.
Следующим утром Вивьен вышла из особняка в черном пальто, со стальным выражением лица и хрупкой заколкой в волосах. Сегодня был день дела. И её глаза, ещё вчера мягкие, стали такими, какими их знали в подпольных кабинетах, за занавешенными дверями и в сыром подвале старого магазина на окраине. Теперь она – не женщина, которой подают коньяк в бокале и позволяют курить у окна. Теперь она – лицо сделки. И чья- то жизнь сегодня закончится в зависимости от того, улыбнётся ли она в нужный момент. Сделка назначена на шесть вечера. Место – склад в доках, кирпичное здание с выбитыми окнами и новыми решётками. Снаружи пахло солью, углём и гниющей древесиной. Старая гавань. Грузовые машины стояли в отдалении, как молчаливые свидетели. Возле входа курили трое мужчин в пальто: один с повязкой на руке, другой – с тростью, третий – с глазами, в которых читалась статистика смертей. Ни один не заговорил, когда Вивьен подошла. На ней было чёрное пальто с высоким воротником, закрывавшим шею. Под ним – тёмный костюм: узкие брюки, жилет с серебряной цепочкой, белоснежная рубашка без украшений. Волосы – убраны высоко, но не туго. Заколка – сдержанная, из чёрного металла, как напоминание. На ногтях – холодный лак, цвета мокрого асфальта. Лицо – без румянца. Губы – не накрашены. Только взгляд. Тот самый. С которым сдаются даже стены. Внутри – всё было готово. Слева: их люди. Справа: другие. Посередине – стол. Деревянный. Пыльный. На нём – три ящика, бумага, портфель. В углу – охрана. Молчаливая. Без вопросов. Один из них подал ей сигарету. Она взяла. Не поблагодарила. Только кивнула. Закурила. Появился главный. Чужой. Представился фамилией. Без имени.
– Мисс Холлоуэй. Рад видеть вас лично.
– Радость – вещь скоротечная, – ответила она и сделала затяжку. – Покажите товар.

