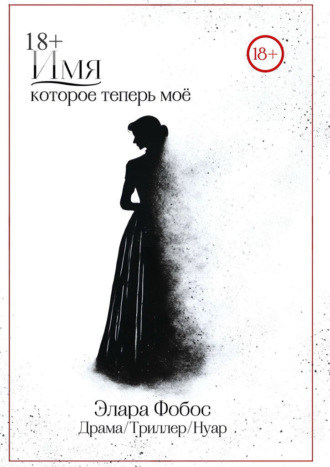
Полная версия
Имя, которое теперь моё
– Чисто сработал, – сказал он. – Эллиот исчез. Без шороха. Я это ценю.
Генри ничего не ответил.
– Тебе не нравится, когда я хвалю?
– Мне всё равно.
Арчибальд усмехнулся, не глядя. Потёр перчатку о запястье.
– Знаешь, ты стал другим. Тише. Но внутри… – он сделал затяжку. – Внутри что- то всё- таки трескается. Я слышу.
– Может, тебе кажется.
– Мне ничего не кажется. Особенно в людях. Ты стал… мягче. Как будто кто- то вернулся.
Пауза. Генри смотрел в стакан.
– Ты сейчас задал личный вопрос?
– Я задал наблюдение. И ты отреагировал. Этого достаточно.
– Перейдём к делу?
– Мы уже в нём.
Тишина. Долгая. Арчибальд встал. Допил. Поставил стакан.
– Береги то, что тебя меняет. Если оно вообще того стоит. Потому что если нет – ты только зря дал себе слабину.
Он ушёл. Дверь закрылась. Генри сидел. Не двигался. Долго. Потом встал. Пальто. Сигарета. Выход. Гарольд молча открыл перед ним дверь машины. Генри сел. Не сказал, куда ехать. Но адрес знали оба. Он вошёл без ключа. Дверь была не заперта. Внутри пахло едой, чаем и тем, что в этой квартире всегда оставалось – покоем, которому не нужно было разрешение. Свет был приглушён, комната – полутёмной, но уютной. Адель вышла из кухни, вытерла руки о тканевое полотенце, посмотрела на него. Он не сказал ни слова. Она тоже. Он снял пальто. Повесил. Она вернулась обратно. Через несколько минут он услышал, как стучит крышка кастрюли, как доносится тихое шипение масла, как капает вода. Он сел за стол. Не глядя. Не спеша. Пальцы на столешнице – напряжённые, будто продолжали держать оружие. Она поставила перед ним тарелку. Потом – села напротив. Ели молча. Он – не жадно, но быстро. Она – почти так же. За ужином ни одного взгляда. Только звук посуды и слабое дыхание, которое каждый из них старался не показывать. Когда они доели, он отодвинул тарелку. Она тоже. Потом встала.
– Пойдём, – сказала тихо.
Они прошли в спальню. Свет не включали – только тот же старый ночник у кровати. Он сел. Она – рядом. Плечо к плечу. Но не касались. Сидели так, будто время остановилось. Молчание висело в воздухе. Не тяжёлое – просто густое. Как дым.
– Куда ты ездил? – наконец спросила она.
Он посмотрел в стену.
– На склад.
– Что за склад?
– Рабочий. Один из многих.
– И зачем?
– Разобраться.
– С кем?
– С человеком, который перестал понимать, как тут всё устроено.
Пауза.
– И как ты ему объяснил?
– Тихо. Так, чтобы запомнил.
Она повернула голову. Смотрела прямо.
– Не будь со мной таким сухим, – сказала она. Голос – спокойный, без обиды. – Я не они. Мне не надо от тебя бояться.
Он посмотрел на неё.
– Я не знаю, как иначе.
– Тогда учись. Здесь. Со мной. Здесь ты не должен быть ледяным. Ты можешь быть просто… собой. Тем, кто сидит и ест со мной молча. Тем, кто не пьёт коньяк. Тем, кто прикрывает одеялом, а не встаёт первым. Ты всё ещё умеешь это. Я знаю.
Он сжал губы. Опустил взгляд.
– Это опасно.
– Почему?
– Потому что с тобой я тёплый. А значит, мягкий. А мягких ломают первыми.
– Я не сломаю тебя. Я держу. Я не давлю.
Он не ответил. Только чуть сдвинулся ближе. Она молча накрыла его ладонь своей. Они так и сидели. Не касаясь больше. Не говоря. Они сидели в полумраке. Тишина уже не была густой. Стала мягкой. Лёгкой. Как воздух перед сном. Адель не сжимала его руку. Просто держала. Он не прятал свою. Просто позволял. Когда она встала, не спросила: останешься? Просто пошла к кровати, зажгла свечу, сняла халат и легла. Он остался сидеть. Минуту. Две. Потом расстегнул пуговицы на рубашке. Не торопясь. Снял. Разделся. Тихо. Лёг рядом. Она отвернулась на бок. Он лёг за ней, не касаясь. Потом аккуратно – почти неуверенно – обнял. Рука легла ей на талию. Тепло.
– Ты правда останешься? – шепнула она.
– Да, – просто.
– А утром?
– Буду.
Она выдохнула. Он тоже. В груди у него не звенело. Не гудело. Не скрежетало. Впервые за долгое время было просто… спокойно. Он прижался щекой к её спине. Закрыл глаза. И уснул. Не как охотник. Не как убийца. Как человек, который нашёл, к чему хочет возвращаться. Утром он проснулся от света. Лёгкий луч скользил по стене. Адель уже не спала. Лежала рядом, тихо дышала, не двигаясь. Он не встал. Он смотрел на потолок. На её плечо. На подушку.
– Доброе утро, – сказала она, почти шёпотом.
– Оно действительно доброе, – ответил он.
– Хочешь чай?
– Да.
Она встала. Он остался. На губах – что- то похожее на улыбку. Она легко поцеловала его и ушла на кухню. На груди – тишина. Не тревожная. Просто тишина. В этот день всё было по- другому. Генри остался. Он не спешил одеваться, не смотрел на часы. Просто сидел за столом, пил чай, слушал, как Адель что- то говорит о плите, о скрипящей двери, о том, как давно здесь не было порядка. Он кивал. Иногда даже отвечал. Тихо. Коротко. Но это был разговор. Настоящий. Он снова не курил. Не потому что не хотел – потому что не нужно было. Адель убирала со стола, когда в дверь постучали. Глухо. Три раза. Она подошла. Генри даже не поднялся – просто смотрел в окно. Вернулась она уже с другим лицом. В руках – конверт. Он узнал его сразу. Цвет, почерк, воск. Всё. Она поставила его перед ним.
– Это что?
Он молчал. Взял. Посмотрел. Не тронул.
– Генри.
– Работа.
– Сегодня? Сейчас?
Он кивнул. Она подошла ближе. В глазах – не злость. Только обида. Тонкая, тихая, но сильная.
– Я думала, ты останешься.
– Я остался.
– На ночь. Этого мало.
– Мне хватило.
– А мне – нет. Я не хочу просыпаться и каждый раз гадать, уйдёшь ли ты через час. Я не хочу жить в страхе, что тебя снова не будет. Я не хочу делить тебя с этим…
– С этим я и есть, Адель.
Он сказал это тихо. Ровно. Как констатацию. Как приговор.
– Я этим живу. Я делаю то, что умею. И в этом мире это всё, что у меня есть. Либо ты принимаешь это, либо мне придётся оставить тебя.
Тишина повисла в воздухе. Она отступила на шаг. Глаза – сухие. Щёки – чуть побледнели.
– Ты даже не попробовал выбрать.
– Я выбрал. Я пришёл к тебе. Я остался. Я лег рядом. Я уснул. Это – был выбор. Но я не брошу то, что держит меня в этом мире.
Она отвернулась. Пошла к окну.
– Тогда иди, – сказала она тихо. – Делай, что умеешь.
Он встал. Медленно. Без звука… Надел костюм, пальто. Взял конверт. Остановился у двери.
– Я вернусь.
– Не обещай, – не оборачиваясь. – Ты не умеешь сдерживать это.
Он вышел. Дверь за ним закрылась. Глухо. Как будто снова закрылся целый мир. Адель не плакала. Не разбивала чашки. Не хлопала дверями. Просто стояла у окна, пока шаги Генри не исчезли в глубине улицы. Потом села. В кресло. В то самое, где он сидел ночью. Обняла колени. Закрыла глаза. Внутри не было истерики. Только гул. Странный, похожий на звон после удара по стеклу.
Он ушёл. Опять. Но теперь не просто – вышел по делу. Он вышел с условием. С выбором. И не выбрал её. Она не злилась. Это было хуже. Понимание. Полное, глухое, страшное. Он не станет другим. Ни завтра, ни через год. Ни с ней, ни без. Он может быть рядом – но он всегда будет снаружи. Её шатало внутри. От желания уйти. Уехать. Забыть. А потом – от мысли, что он вернётся, а её нет. И тогда он впервые действительно останется один. Вечером она разогрела чай. Не ужин. Чай. Села на кухне. Слушала, как тикают старые часы. Думала, что не выдержит. Потом – что выдержит всё. Потом – что уже решила. Когда стукнула входная дверь, она не пошла сразу. Только через минуту. Он стоял у стены, пальто снято, лицо ровное. Глаза —сухие, как всегда.
– Ты пришёл, – сказала она спокойно.
– Да.
– Я думала, не вернёшься.
– Я обещал.
Она кивнула. Прошла мимо. Села. Он – напротив. Минуту они сидели в тишине.
– Я останусь, – сказала она.
Он не ответил. Только слушал.
– Я не прощу. Не одобрю. И не забуду. Но я приму.
– Почему?
– Потому что ты вернулся.
Пауза.
– И потому что я знаю – ты не просил, но ты надеялся, что я останусь.
– Я не умею просить.
– Я знаю.
Они снова замолчали. Он встал. Подошёл. Не сел рядом. Просто достал из кармана маленькую бархатную коробку. Без жеста. Без взгляда. Без театра. Открыл. Протянул.
– Будешь?
Она не улыбнулась. Не ахнула. Просто взяла кольцо.
– Да.
Он закрыл коробку. Положил обратно в карман.
– Тогда я остаюсь.
Они больше не говорили. Только смотрели друг на друга. И всё в этом взгляде было чище любого обещания.
Глава 4. Железные руки
Она родилась на рассвете.
Дом был тёплый, пахло кипячёной водой, свечами и сырой тканью. Адель кричала почти беззвучно – так, как кричат женщины, которые уже всё поняли. Она держалась за кровать, потела, дрожала, но в глазах у неё был тот самый свет, который горит у тех, кто больше не боится боли. В комнате стояла повитуха, пожилая, с узкими пальцами, запахом трав и строгим лицом. Генри не уходил. Стоял у двери. Молчал. Не двигался. Он не привык быть свидетелем жизни. Он умел смотреть на смерть. Умел предугадывать боль. Но это – это было что- то из другого мира. Он стоял, как камень. Лицо – холодное. Но руки дрожали. Незаметно. Медленно. Когда ребёнок закричал, мир будто провалился в глухоту. Ни один звук в жизни Генри не пробивал броню, как этот. Он подошёл. Повитуха держала девочку. Маленькую. Сжатую в комок. Розовую. Вся – дыхание, крик, жизнь. Она передала ему ребёнка. Он взял. И впервые в жизни не знал, что делать с руками. Она лежала у него на ладонях, как вся суть, зачем он вообще остался в этом мире. Он посмотрел на неё. Тёмные волосы. Маленький лоб. Морщинистые, но уже упрямые губы. А глаза – как у Адель.
– Вивьен, – прошептала она с кровати. – Назови её Вивьен.
Он не ответил. Только кивнул. Он отнёс дочь к кровати. Положил её рядом с матерью. Адель была бледной. Очень бледной. Он знал этот цвет. Слишком хорошо. Повитуха отводила взгляд. Что- то бормотала. Но Генри уже понимал. По дыханию. По глазам. По пальцам, которые Адель больше не поднимала.
– Генри… – сказала она, почти без звука. Он наклонился.
– Береги её, – прошептала она. – Но не как меня. Не молча.
Он хотел сказать что- то. Всё. Любовь. Боль. Прощение. Но из него вышло только одно:
– Прости.
Она улыбнулась. Очень слабо.
– Уже, – сказала она.
И ушла. Медленно. Тихо. Без последнего крика. Пока дочь рядом плакала – мать замолчала. В один и тот же час. Он стоял. Смотрел. На жену. На дочь. И чувствовал, как его сердце перестаёт быть оружием. И становится раной.
После похорон Адель он не разозлился на мир – он просто перестал с ним разговаривать. Не кричал, не бил стены, не пил больше обычного. Он просто замолчал. Утром – тишина. Вечером – тишина. Даже когда Вивьен плакала, он не говорил ей «шшш», не баюкал. Он брал её на руки, медленно, как будто боялся сломать, и просто держал. Иногда сидел с ней так по часу. Не качал, не убаюкивал, не прижимал к груди. Он просто был рядом. Глаза её закрывались. Плечи расслаблялись. Она засыпала. А он оставался с открытыми глазами, и в голове его гудело: «живи, просто живи». Не себе. Ей. Он не знал, как растить ребёнка. Он не знал, как быть добрым. Но он знал, как быть рядом. Он научился кипятить воду, наливать молоко, мыть детскую посуду, обрабатывать трещины на пальчиках йодом. Неловко. Грубо. Но делал. И каждое её «папа» било по нему сильнее, чем выстрел. Потому что он не заслуживал. Потому что он знал, он держит в руках ту, ради которой должна была жить Адель. Он не нанимал нянь. Не пускал чужих в дом. Вивьен росла в мире, где почти не было других людей. Только он. И работа. И иногда Гарольд, который приносил письма, и всегда смотрел на девочку чуть дольше, чем позволено. Генри не мешал. Он знал, Вивьен нужно хоть что- то, кроме его плеч и его молчания. Но всё равно, когда Гарольд уходил – он сразу закуривал. Смотрел в окно. Глубоко затягивался. Он пропадал. Иногда – на день. Иногда – на трое. Никогда не говорил, куда. Не говорил, когда вернётся. Она не спрашивала. Но он знал, что она ждёт. Всегда. Каждый раз, когда он открывал дверь, она поднимала голову, как будто просто моргнула. Ни упрёка, ни слёз. Только взгляд: «ты снова ушёл». И он не знал, как с этим справляться. Поэтому просто проходил мимо, раздевался, пил воду, садился, закуривал, а потом говорил:
– Была хорошая?
Она кивала. А он клал ладонь ей на голову. Не гладил. Просто держал. Несколько секунд. Её волосы щекотали его пальцы, и он чувствовал: это всё, что у него есть. Когда ей было пять, она впервые увидела кровь на его рукаве. Он заметил её взгляд. Снял пальто. Сказал тихо:
– Это не твоя кровь. И никогда не будет.
Она ничего не ответила. Просто сжала в кулачке угол своей пижамы. А он пошёл в ванную, долго мыл руки. Так долго, что ногти побелели. Он учил её читать. Вечерами. Тихо. Без ласки. Без сюсюканья. Просто сидел рядом. Книги были тяжёлые, с плотной бумагой. Она ошибалась – он не поправлял. Она справлялась – он молчал. Но после – приносил ей печенье. Без комментариев. Просто ставил на стол. И уходил. И она понимала: это и есть его «я горжусь тобой». Мир снаружи не становился мягче. Люди исчезали. Партнёры предавали. Улицы становились грязнее. Генри всё чаще возвращался поздно, в сигаретном дыму, с тенью на лице. Но дома его ждала она. Девочка в халате. С книгой. Или с чашкой. Или просто с глазами, в которых он видел – всё ещё можно дышать. Он не говорил ей, что любит. Никогда. Но каждый раз, когда она засыпала, он сидел рядом. Иногда брал её ладонь. Долго. Не двигаясь. И если она просыпалась, он только шептал:
– Спи. Я здесь.
Это было всё, что он мог. И всё, что ей было нужно.
Когда Вивьен исполнилось восемь, она уже умела определять по глазам, была ли ночь у Генри трудной. Она не задавала вопросов. Просто знала. Если взгляд стеклянный – молчать. Если заходит без пальто – налить воды. Если сидит у окна дольше пяти минут – подать пепельницу, не дожидаясь, пока он сам дотянется. Они не обсуждали её школу – потому что школы не было. У неё были книги. Старые, купленные им у букинистов, в жёлтой обложке. У неё был карандаш. Тетрадь. И он. Вечерами он сидел рядом, курил, слушал, как она читает вслух, иногда ставил ударение, если она ошибалась. Редко. Но точно. Она умела говорить на языке тишины. Она знала, как реагировать на стук в дверь. Никогда не подходила сама. Никогда не спрашивала, кто. Она не слышала, как звучит смех других детей. Не бегала по двору. Не каталась на качелях. Но она знала, как быстро прятать бумаги, если вдруг, кто- то постучит не трижды, а дважды. Она знала, куда он прячет оружие, но никогда не касалась. Знала, что фляга с коньяком – его способ дышать. Знала, что если он выходит, не сказав ни слова, – это значит, что он не хочет быть никем, пока не вернётся.
Когда ей было девять, один из людей Арчибальда пришёл в дом пьяный. Он перепутал адрес. Постучал грубо. Генри открыл дверь, вышел за порог – и вернулся только через полчаса. Вивьен видела, как он вытирал пальцы платком, потом шёл мыть руки – так же долго, как в день, когда умерла Адель. На следующее утро он оставил ей у кровати коробку с конфетами. Она ничего не сказала. Просто взяла одну, развернула. Это был их способ говорить: через жесты, через молчание, через вещи. Она никогда не называла его «папочка». Только:
– Папа.
Иногда:
– Генри.
Он не поправлял.
Когда ей было десять, он начал брать её с собой в магазин, к портному, к часовщику, иногда даже – в старый паб, если Гарольд не мог сопровождать. Она не пугалась запаха дыма. Не пугалась мужчин, которые поднимали глаза и тут же опускали. Она ходила рядом, тихо, в пальто, чуть касаясь его рукава. И он знал: она растёт не как обычный ребёнок. Она растёт как тень. Как человек, умеющий исчезать при свете дня. Он всё ещё был холоден. Но рядом с ней – не пуст. Его ладонь могла быть тяжёлой. Его голос – сухим. Но каждый раз, когда она засыпала, он оставался сидеть. Сигарета. Коньяк. Молчание. И одна мысль:
«Ты единственная, ради кого я не исчез.»
Ей было одиннадцать. Дождь шёл с утра, и к вечеру улицы блестели, как глянцевая бумага. Генри вышел рано. Сказал: «буду поздно». Но ключ оставил. А она, как всегда, ждала. Чай остывал. Книга лежала раскрытая, но глаза бегали по строчкам, не вникая. Вивьен сидела у окна, тёплый свет настольной лампы бил по стеклу, делая её отражение мутным. В какой- то момент она услышала, как у двери провернулся ключ. Он вошёл. Но – не один. Она не вышла сразу. Прислушалась. Второй голос – чужой, громкий, сбивчивый. Генри говорил коротко. Сухо. Его тон она узнала сразу – тот, которым он говорил только тогда, когда не прощал. Они прошли в кабинет. Дверь захлопнулась. Тихо. Но не до конца. И этого было достаточно. Вивьен поднялась. Медленно, как будто знала – сейчас будет что- то, что изменит её.
Подошла. Встала у стены. Щель между дверью и косяком была тонкой, но глаз – ребёнка. И то, что она увидела, навсегда отпечаталось в памяти. Комната была тускло освещена. Только настольная лампа. Генри стоял. Напротив – мужчина. Лет сорока. Пальцы дрожали. Лицо побелело. Под глазом – синяк. На столе – документы. Деньги. Маленькая коробка, перевязанная верёвкой.
– Ты что, подумал, я не узнаю? – голос Генри был ровный. Лёд.
– Я… я просто… они предложили больше…
– Ты взял у нас. Потом взял у них.
– Но я верну! Я верну всё до последнего шилли…
– Уже не важно.
– Генри… пожалуйста…
– Тебе не ко мне. Тебе к Богу. Если он тебя ещё слышит.
Пауза.
Тот человек бросился к нему. Рывок. Вивьен дёрнулась. Щелчок. Генри оттолкнул его резко, точно. Потом – достал пистолет. Но не поднял. Просто положил на стол. Словно говорил: «я могу. Не обязан. Но могу.»
– Гарольд.
Из темноты вышел Гарольд. Как будто всё это время стоял в тени.
– Отвези. Без криков. Без крови на одежде.
– Куда?
– Ты знаешь.
– Да, сэр.
Мужчина забился. Генри не смотрел.
– Пусть молчит, – бросил он, садясь в кресло.
Дверь распахнулась. Гарольд вывел его. Шаги затихли. Вивьен стояла. Ни звука. Ни слезы. Ни вздоха. Просто смотрела. Понимала. Когда Генри вышел из кабинета, она уже сидела в кресле, как будто никуда не уходила. Книга на коленях. Страница та же. Он взглянул на неё. Долго. Прищурился. Сигарета легла в зубы.
– Ты всё слышала?
– Да.
– Всё видела?
– Да.
Он кивнул.
– Хочешь что- то сказать?
Она посмотрела на него. В глаза.
– Теперь всё понятно.
Он кивнул ещё раз.
– Тогда иди спать.
Она встала. Прошла мимо. Но перед тем как исчезнуть в дверном проёме, остановилась.
– Папа?
– Да?
– Я не боюсь тебя.
Он остался сидеть. Не пошевелился. Сигарета горела в руке. И только в его взгляде мелькнуло что- то – тёплое. Страшное. Горькое. Потому что в этой фразе было всё. И он не знал, должен ли он ею гордиться – или бояться.
Ей было двенадцать. Сначала он просто брал её с собой. Без слов. Без объяснений. Вивьен садилась в машину рядом. Руки на коленях. Спина прямая. Он не говорил, куда они едут. Она не спрашивала. Но запоминала всё: маршрут, повороты, лица на улицах, жесты водителя. Гарольд всегда бросал на неё короткий взгляд в зеркало. Не вопросительный. Просто – фиксировал.
Первый раз она вошла с ним по- настоящему – не как девочка, которой нечего делать, а как тень за спиной. Это был склад. Старый. Кирпичный. Внутри пахло пылью, мокрой тканью, жиром и – сильнее всего – железом. Запах – как ржавчина на крови. Густой. Вязкий. Вивьен дышала через рот. Молча. Пол – цемент, местами в трещинах. Вдоль стены – металлические ящики. На них цифры. Стояли трое. Один с бумагами. Один с кожаным портфелем. Третий – на страже, с руками в карманах. Они замерли, когда увидели Генри. Потом – её. Он не представил её. Просто кивнул в сторону.
– Она здесь. Привыкайте.
Мужчины переглянулись. Но не сказали ни слова. Вивьен смотрела. Не на лица. На детали. Один в дешёвом галстуке, но с дорогими часами – значит, ворует. Второй с запачканным ботинком – спешил, не хотел быть здесь. Третий – глаза бегают, нос чешет – нюхает, нервничает.
Она стояла у стены. Не шевелилась. Взгляд вперёд. Не вниз. Не в пол. На столе – бумаги. Опись. Количество ящиков. Номера. Один из них начал говорить.
– Мы получили шестьдесят две единицы. Опиум сырой, влажность…
– Неинтересно, – сказал Генри. – Сколько процентов утечки?
– Ну… где- то…
– Я не задавал вопрос. Я жду цифру.
– Девять.
– Должно быть не больше пяти.
– У нас проблемы с упаковкой…
Генри бросил взгляд на Вивьен.
– Скажи мне, что ты видишь.
Она подошла. Медленно. Открыла один ящик. Протянула руку. Ткань. Сырость.
– Не герметично. Переходник плохо закреплён. И запах – сырость пошла снаружи. Не внутри.
Один из мужчин прикусил губу.
– Она… разбирается?
– Ещё нет. Но учится.
– У вас странные методы.
– А у вас – слабые упаковки.
Сделка продолжилась. Подписи. Печати. Один из мужчин, тот, что с часами, косился на Вивьен. Генри заметил. Достал сигарету. Медленно закурил.
– Следующий раз – без взглядов. Она не мясо. И не товар. Она – память. И если кто- то подумает тронуть мою память – я сотру его имя с улиц.
Пауза. Дым висел в воздухе. Никто не возразил. Когда они вышли, Вивьен шла рядом. Руки в карманах пальто. Он не говорил. Только закурил. Она смотрела вперёд.
– Почему «память»? – спросила.
– Потому что ты – всё, что осталось.
Она кивнула. Больше не спрашивала. Вечером дома она написала в тетради:
Сделка. Один говорил. Один нервничал. Один – врал. Папа знал это с первого взгляда. Я – со второго. Учиться надо до того, как начнёшь говорить.
Ей было пятнадцать. Переулок в Кэмдене был забит грязным снегом и запахом гари. Гараж снаружи выглядел заброшенным – но внутри горел жёлтый свет, и дышать было трудно: опилки, перегретый металл, сигареты. Генри открыл дверь первым. Вивьен – за ним. Она уже не держалась в стороне. Шла рядом. В пальто. Рука в кармане. Не нервно – привычно. Внутри – трое. Стол из фанеры. Весы. Калькулятор. Один стоял, как лидер. Второй – руки в масле. Третий – смотрел в пол. Раньше бы Вивьен стояла сзади. Теперь – в центре. Никто не спросил, кто она. Никто не посмел. Её шаги звучали ровно, как у отца. Её глаза не бегали. Она смотрела прямо. И это было хуже, чем пистолет. Генри бросил папку на стол.
– Это отчёт за два месяца.
– Мы не успели всё пересчитать, – сказал тот, что в масле.
– Не мой вопрос, – отрезал Генри.
Вивьен подошла к ящику. Открыла.
– Сырость, – сказала. – Примеси. Вес обманут.
– Но это…
– Не перебивай, – сказал Генри.
Вивьен вытащила один мешок. Разрезала ножом. Провела пальцем по кромке. Понюхала.
– Кукурузный крахмал.
– Это всего…
– Ты думаешь, что я не знаю разницу? – она сказала это без гнева. Ровно. Так, как будто в её голосе было разрешение умереть. Тот, что в масле, побледнел. Она подошла к третьему. Тот смотрел в пол.
– Почему молчишь?
– Я…
– У тебя были свои расчёты. Ты знал, что он подмешивает. Но молчал. Значит, ты либо соучастник, либо трус.
Пауза.
– Мы не работаем ни с теми, ни с другими.
Генри молчал. Курил. Он смотрел на неё – не с гордостью. С удивлением. Она говорила, как он. Стояла, как он. Даже тень от её плеча легла так же, как раньше ложилась от его – на тех, кто провалился.
– Вы трое исчезнете. Сегодня. Не из жизни. Из города. У вас час. После этого – другие придут за вами.
Она развернулась. Пошла к выходу. Генри – за ней. На улице он достал сигарету.
– Сильно, – сказал он.
– Справедливо, – ответила она.
– Страшно, – добавил он.
Она взглянула на него.
– Мне тоже. Но не за себя. За тебя.
Он выдохнул дым. Глубоко. Смотрел, как он расплывается в морозном воздухе.
– Я никогда не думал, что ты станешь мной.
– Я не стала тобой. Я стала тем, кто умеет выживать. И ты – научил.
Он не ответил. Просто кивнул. Они пошли дальше. Как два одинаковых силуэта. Только её шаги звучали даже тише.
Ей было двадцать. Здание было новое, но стены пахли старыми страхами. Бетон. Хром. Запах дешёвого кофе и документов. На двери – табличка: «Договорное бюро поставок». Ни слова правды. За дверью – склад. За складом – люди, которые думали, что могут стать новыми. Когда Вивьен вошла, в комнате было шестеро. Один стоял. Остальные сидели. На ней – чёрное пальто в пол, облегающее платье, перчатки. Волосы собраны. На губах – холодный бордовый цвет. Ни драгоценностей. Только маленький пистолет в кобуре под тканью. Он не мешал ходить. Лёгкий. Как жест. Она сняла перчатки. Медленно. Села. Скользнула взглядом по лицам. Все замолчали. Она вытащила сигарету. Закурила. Сигнал – не спешим.

