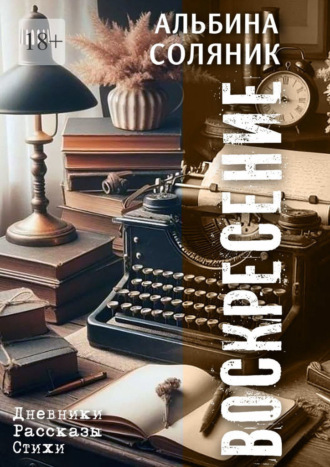
Полная версия
Воскресение. Дневники, рассказы, стихи
А в Союзе в эти годы было трудно, исчезли продукты с прилавков, даже вещи первой необходимости. И мы старались по возможности отправить родным посылки – с продуктами, коврами, одеждой, джинсами. В отпуск ехали как верблюды, наполненные чемоданами и коробками. Но какая радость была на лицах родных, когда они получали наши подарки. Помню, мамочка плакала, вынимая из пакетов салями, паприкаш – вдыхала запах и восхищалась вкусом. Пряжу я ей посылала килограммами, она любила вязать, и получались изумительные вещи для меня и детей. Мама была талантливым человеком – и вязала, и стихи писала, и на гитаре играла.
В Будапешт выезжала часто: в госпитале работала посменно и, отдежурив восемнадцать часов, двое суток была свободна. На целый день могла уехать в столицу, после зарплаты, конечно – любоваться красотой города и делать покупки, не всегда нужные, но всегда желанные. Капельное серебро… Да, не золото для нас, русских, было желанным, а именно капельное серебро – необыкновенно изящные и эксклюзивные украшения, таких в Союзе было не купить, и мы, счастливые обладательницы, приезжая в отпуск, производили сильное впечатление.
На улице Ракоши, кроме книжного магазина, мне нравилось отдыхать в открытом кафе – жареные каштаны со взбитыми сливками, хороший кофе. Приезжая с детьми, ходили в «Видам Парк», где находилось пятьдесят аттракционов, а также удивительный архитектурный ансамбль в стиле эклектики – из фрагментов знаменитых венгерских объектов в мини-масштабе, но с точностью до деталей: дворцов, соборов, замков. Попадая туда, чувствовали себя великанами в стране лилипутов.
Озеро Балатон и высаженные сады – райская местность. Много памятников средневековья и поздних эпох с архитектурными оттенками тех, кто захватывал территорию: были турки, итальянцы, немцы. Бронзовые памятники – патина изумрудного цвета создавала впечатление древности, архаичности, вызывала большое любопытство и интерес. Не удивительно, что немец Брамс был влюблен в Венгрию и написал замечательные «Венгерские танцы», в которых душа, страсть и воинствующее начало так электризуют слушателя. А мелодию «Чардаш» итальянца Монти, одну из моих любимых, дочка Иринка играла на аккордеоне – я замирала, слушая ритмы и звуки.
За годы жизни в Венгрии многое для себя поняла. Мир оказался очень разнообразным. Россия вдруг стала настоящей Родиной. И березки, и плесы, и горы, и наше Черное море стали для меня лучшими в мире. Домой перед отпуском тянуло невыносимо. Но после отпуска также сильно хотелось в Секеш. Так и жили. Дети воспитывались в культурной среде – общались с людьми разных национальностей, убеждений, но объединенных в гарнизоне в лучшее советское сообщество. Мы помогали друг другу, поддерживали в трудные моменты, были как родные. Единственное, что мне не хватало – общения с российской культурой: походов в театр и кино, встреч с известными лицами, в том числе из мира медицины, да просто разговоров по душам на кухне. От этого возникала грусть.
Развод с мужем… Могла остаться после развода в Венгрии, но уехала. И не раз пожалела. Жизнь в Москве со вторым мужем оказалась не так радужна, любовь ее не скрасила, а лишь еще раз убедила в том, что рая в шалаше с милым не бывает. А когда и шалаша-то своего нет, все в подвешенном состоянии – уже не до романтики.
Отъезд из Будапешта пришелся на 25 декабря – рождественские праздники. Перед поездом мы прогулялись по вечерней столице. Я прощалась с городом со слезами на глазах, понимая, что вряд ли смогу вернуться сюда когда-то.
Жаркое лето – 99
Через десять лет жизни в Омске случилась поездка на Северный Кавказ. В 1999 году стала участницей гуманитарной акции, руководил которой и обеспечивал финансами отставной военный, ставший бизнесменом. Работали на пограничном КПП на 27-й магистрали «Ростов – Баку»: кроме обязанностей медсестры, я еще была фармацевтом, также участвовала в организации концертов и лекций для военнослужащих. Вела дневник.
«20.07.1999 г. Жара притомила. Начинаю страдать. Днем не спасает даже море. Вода почти такая же теплая, как воздух. Солнце пылает, сейчас оно белое. Море – синий волнистый перламутр, легкий бриз, рябь на воде. У берега – прозрачная волна, на дне рыбки какие-то, крабы махонькие на камнях. Пахнет водорослями и шашлыками с берега. В прибрежном кафе звучит мелодия Морриконе. Жизнь остановилась на прекрасное мгновение. Мозги плавятся, соображать невозможно. Но накапливается содержание в картинках, репликах, разговорах».
«Сюжет. Погранзастава, учебный центр, где готовят солдат для службы на границе с Чечней. Была договоренность о встрече на 26 июля, пришла к 9—00 часам. На КПП сказали, что майора Николенко нет. Ждала минут сорок. Не прибыл. Провели к замполиту (заместителю по воспитательной части) – майору Романюку. Вахтенный ушел, имени-отчества не назвал. Не знал? Или – необязательно: начальник да начальник, по воспитанию, без имени. Романюк десять минут уделил. Беседа на уровне: „Можно? – Нет, нельзя! Разрешения на интервью газетчикам нет“. Сказала, что все равно напишу, но могу и со ссылкой на его „нельзя“. Не понравилось. Улыбается вежливо, мол, разговор окончен. Майор Николенко или боится, или действительно очень занят. Надеюсь, второе. Не верится, что избегает встреч. Ведь было, было – и нравилась я ему, и рассказывал все, что спрашивала. И он рассказывал, и другие – прапорщики Путилин и Рыжий, ребята с КПП. Почему сейчас опять запрет, что за чушь? Что они, свой народ боятся, от газет шарахаются, как черт от ладана. Если сегодня не добьюсь приема у командира, включу женское начало, воздействую обаянием. Начну с Николенко: поговорить – не переспать, в глаза заглянуть придется и очки снять защитные. Сделаю пару снимков для истории любви простой русской поэтессы и офицера доблестных погранвойск, участника событий в Боснии, героя Чеченской войны 1995—1996 годов. Зря, что ли, стихи про него писала, героем сделала в статье, а он, негодный, рассказать о положении на границе не хочет. Трус несчастный, любовник несостоявшийся. Еще легенды ходят о гуляющих офицерах, а им не до гуляний – долг нести надо. Они ухаживать только за пистолетом умеют, не иначе. И напишу о них, вот только поговорю конкретно, чем дышат на данный момент. Жара не в счет. Вечером читаю стихи перед личным составом. Воспитательное мероприятие – это да, это можно. Ладно, дальше посмотрим».
«Сюжет второй. Санаторный пляж, одинокая женщина. Везде одна, ни с кем не общается. Раздражена, сосредоточена на своих мыслях. Не замечает, что привлекает этим внимание, но негативное. Не замужем, 33 года, медсестра из Орла. Агрессивна даже. Предложила мне помочь с лечением. Сходила к ней на массаж. Больше четырех раз не выдержала: истязала меня до синяков, все ребра болели – больше терпеть не стала. Из разговора двух женщин: „Люда стала невыносимой и странной. Слышала, она на инвалидности по психиатрии“. Все ясно. Кто у нас нормальный?»
«Сюжет третий. МИ-8 в составе авиации. Прапорщик Петя – бортмеханик: квартиры нет, снимал жилье, служил 20 лет – на боевом вертолете в Тбилиси, Таджикистане. Автоматная очередь прошивает фюзеляж – сейчас его стали бронировать. Акулы горные в Афганистане, сейчас в Чечне эти МИ-8!»
«14.08.1999 г. Три дня осталось до отъезда. Хочется домой. Хочется прохлады. Надоело все, кроме моря. Море – божий дар: простор, величавость водной стихии, далекая линия горизонта, за которой скрывается что-то неизвестное и бесконечно заманчивое. Парусники алеют в лучах заходящего солнца. Александр Грин ничего не выдумал в своих историях, он все это видел, глядя долгие часы на море. И я ему верю. Несчастный человек, светлый писатель, сколько радости в его рассказах. А как горько жил, тяжело и мучительно умирал. Может, просто Бог так компенсировал его талант, чтобы дебет с кредитом связать. Если душа его светится где-то среди звезд, пусть моя любовь к нему и благодарность будут услышаны ею. Человек без мечты – ничто. А мечта должна быть прекрасной, как море. И Грин это понял, и объяснил людям».
«Сентябрь 1999 года, Омск. Совсем неплохо поработала. Три статьи о пограничниках, больших и хороших. Газета так и ушла по рукам, поздравляли все. Лучше бы редактор рублей 200 выдал, чтобы до зарплаты дотянуть. Мерзость какая: пишу стихи и думаю о хлебе. Может и правда „хлеб – всему голова“, или это только у нас, русских. Венгры и американцы, например, не поймут… 32 стихотворения за полтора месяца на Кавказе, впечатлений – на полгода, настроение – на некоторое время, пока свежи воспоминания о лете. Игорю Николенко отправила письмо и статью о них. Что же это такое, в конце концов? Ведь ничего не было, встречи и те накоротке у калитки. И разговоры все о службе, вопрос и ответ, интервью для газеты. Но ведь приехал ко мне на своем „Вольво“: и бензин нашел, и кофе у моря пили, и смотрел на меня „не все равно как“. Прощание… Врезалось в память: фотографию взял, подписать попросил. Сказал: „Хранить буду в сейфе, где книжки твои, письмо и газетные статьи“. Смешной такой – лучше бы пару часов от службы для меня нашел».
И поэзия, и потери
Спросите, верю ли я в судьбу? Уверовала с некоторых пор. То, что так удачно сочетается имя Альбина и место рождения – красивый уголок Горного Алтая, и появление на свет под знаком Льва (10 августа 1946 года) – все это определило судьбу. Как бы я не пыталась спланировать свое будущее, как бы не давили на меня обстоятельства, всегда находились силы, которые вырывали меня из безвыходного состояния и направляли в нужное русло. Я говорю о литературе, о поэзии.
Я заболела туберкулезом… Долго лечилась. И вдруг нежданно-негаданно мне приснилась Богородица. Была шокирована, что-то такое внутри себя почувствовала, что-то непонятное поняла… И сами по себе рождались рифмы, и появилось стихотворение про Богородицу. С того дня – ни дня без строчки.
2000 год. Получила письмо от Лилии Юсуповой – художницы и замечательной поэтессы из Горно-Алтайска. «Милая Альбина Ильинична! Поздравляю Вас с приятным и знаменательным событием – вступлением в Союз писателей. В жизни должны быть праздники, особенно у творческих людей. Принятие в члены СП, да еще единогласно – это признание коллег. Оно, порой, даже важнее, чем признание читающей публики. Так что пусть это стимулирует дальнейший творческий рост… Я по выходным с упоением рисую, пытаюсь воплотить все идеи, пришедшие в голову летом, так что новых стихов нет, а есть новые картины. Некоторые я показывала четыре дня назад Марии Николаевне – она приходила к нам смотреть видеокассету с Егором. Я тоже вместе с твоей мамой посмотрела омские съемки в Вашем доме (где Егору месяца 3—4). Милый мальчик, милые родители. Мария Николаевна обычно держит меня в курсе вашей жизни… В октябре вечерами я занималась еще переводами на заказ. У нас объявлен конкурс на сочинение гимна Республики Алтай, и два человека, написавшие алтайские тексты, обратились за переводами ко мне… Один из текстов написал Паслей Самык (псевдоним Самыкова Василия. — Ред.). В разговоре он долго расспрашивал о Вас, говорил, что читал ваши стихи, и они ему понравились». Читала и перечитывала письмо много раз.
2002 год. Вышла книга стихов «Колдуют над Россией снегопады» – получила грамоту от Министерства культуры. И премию в честь 40-летия Омской писательской организации за свои поэтические сборники. Большая подборка стихов опубликована в августе в газете «Российский писатель» – для меня очень ценно и радостно!
2003 год. Приболела зимой, но сейчас готова к работе. Еду в Чемал, буду отдыхать в тайге, в горах, буду писать стихи и новеллы, замыслов много… А за лето написала около 40 стихов. Определенно складывается книжка.
2004 год. В ночь на 28 февраля умер папа (мамы не стало 20 декабря 2006 года. — Ред.). Я тяжело пережила этот шок. Слегла. По «скорой» увезли в туберкулезную больницу. Лечили туберкулез, а оказалось – пневмония. Уехала через месяц из Горно-Алтайска и продолжила лечение в омской больнице, через две недели все было в порядке.
В ноябре вышла пятая книжка «В лабиринтах памяти моей». Прошла презентация в музее имени Ф. М. Достоевского. Сумела организовать стол. Очень приятно было видеть друзей, поклонников. Пришли старые знакомые – Римма из Венгрии, из медколледжа женщины с цветами. Очень благодарна за теплые слова, за похвальные речи. Новиков В. П., Токарев А. П. и другие так хорошо отзывались о моем творчестве. Я рада! Отправила сборник Лилии Юсуповой. Она отметила, что «нежные воспоминания о детстве пронизаны милыми и точными деталями», что «тонкие стихи о природе» и «душа тоскует по вольным просторам». И сожалела, что в книге не нашлось места для рассказов, которые бы точно привлекли внимание читателей. Дорогой отклик!
2005 год. В феврале умер художник Виктор Погодин. Мы обожали друг друга. Был период сильной влюбленности, перешедшей в человеческую дружбу. 25 лет мы были очень близки духовно, любовниками – никогда. Я обожала все картины, пожалуй, больше самого мастера. Его последние работы у меня вызывали просто потрясение. Удивительные творения, гениальный художник. Может он там, на небе, будет счастливым. У него был рак легких – ужасная болезнь. Как несправедливо устроен мир. Человек трудился, не покладая рук (кисти), создавал красоту людям на радость, на размышление, и вот – все…
Уже март, скоро весна. Надеюсь, все идет к лучшему. В июне еду в Ангарск к Ирине, в июле – на море, все силы и средства брошу на эту поездку, ведь надо восстанавливаться после болезней и депрессий. Море и горы приводят в чувство, хочется писать светлые стихи и рассказы.
Творческие натуры
Считается нормальным спросить у человека, который знает литературу хотя бы в пределах школьной программы, какой у него любимый поэт или писатель. Это – признак хорошего тона, повод завязать светскую беседу. Умиляет диалог между ведущим популярной телепередачи и политиком или эстрадной дивой:
– Ваш любимый поэт, если не секрет.
– Не секрет. Пушкин (раньше), Бродский (нынче) или Рубцов (вариант).
Это их сколько же надо прочитать за жизнь, чтобы нравился в любом возрасте – от дошкольного до пенсионного – Бродский или Есенин, несмотря на их гениальность и значимость? С каким серьезным выражением лица собеседник доказывает свою «любовь» строками на память из общеизвестного: «Я к вам пишу, чего же боле…». Предел познаний. А удовлетворенный ответом ведущий продолжает: «…что я могу еще сказать?». Уверена, что ни тот, ни другой не прочли «Евгения Онегина», более того – и в руках не держали томик романа в стихах.
А, может, это я ненормальная? Мне всегда нравилось то, что я читаю. Правда, с возрастом уходили одни любимые, приходили другие. Но некоторые оставались по жизни, как Байрон – очень близок, понятен. Не имела удовольствия читать в подлиннике, но и от перевода потрясающие впечатления. Прелесть языка, легкость рифмы! Личность поэта – огромный интересный, роскошный мир.
Однажды самых-самых назвала для себя.
Любимые поэты и писатели: Анна Ахматова, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Николай Рубцов, Джордж Гордон Байрон, Антон Чехов, Иван Бунин, Стендаль.
Любимые книги: «Темные аллеи» Ивана Бунина, «Мадам Бовари» Гюстава Флобера, «Красное и черное» Стендаля (Жюльен Сорель – мой кумир в первые годы замужества).
Любимые композиторы: Антонио Вивальди, Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт, Георгий Свиридов, Альфред Шнитке, Эннио Морриконе.
Любимые художники: Леонардо да Винчи, Михаил Врубель, Федор Васильев, Исаак Левитан, Иван Айвазовский, из омских – Виктор Погодин, Георгий Кичигин…
Анна Ахматова пришла позже, в возрасте уже за 40 лет. После того, как сама стала сочинять поэтические строки. Ее поэзия будто обратила взгляд с мира вокруг на мир в себе. И оказалось, что этот мир не менее разнообразен, но более мистичен, подвижен и привлекателен. Читаю ее коротенькое, пронзительное – «я на солнечном восходе про любовь пою», а следом ложка дегтя – «на коленях в огороде лебеду полю». Начало и конец как два края пропасти. Вся такая Ахматова. Женский нерв, создающий ауру боли во всех тональностях – от сладкой, томительной, возвышающей до горькой, полынной, смертельной, как в «Реквиеме».
– Анна Андреевна, что я бы смогла сказать Вам при встрече, если бы такая была возможность? Только «спасибо»! И прикоснуться к складочке Вашей черной, побитой молью, шали. На большее не хватило бы ни смелости, ни духа-дыхания.
– Ира, доченька, помнишь ту книжечку, которую дал посмотреть Слава Комаров? «Анна Ахматова» на английском и русском, с прекрасными фотографиями и портретами поэтессы, итальянца Модильяни, нашего Алексея Баталова… Удивительные портреты. И, конечно, Альтмана. На прекрасной бумаге отлично оформленное издание. Она была бы счастлива, если бы эта книга вышла при жизни, а не спустя 30 лет после ее смерти.
Ира – творческая натура. Для нее стал особенным год в Киргизии – 1987-й. Мы жили очень неплохо. Фруктовый сад у хозяев был роскошный: досыта наелись абрикосов, винограда всех сортов, персиков, яблок, дынь, арбузов. За успешную учебу Ирине дали путевку в Артек. Отдыхала там два месяца, вместе с детьми из Чернобыля.
Еще во Фрунзе (Бишкеке) она приняла участие в республиканском конкурсе юных музыкантов. И выиграла викторину в газете, после чего получила приглашение в жюри фестиваля детских фильмов, который проходил в Москве. Общалась в жюри с известными актерами и режиссерами из России, Эстонии, Латвии, Литвы и других республик. И я приезжала на конференции и обсуждения, на демонстрацию фильмов-призеров. Познакомилась с Натальей Бондарчук, режиссером фильма «Бэмби», с режиссером Владимиром Грамматиковым, актрисой Мариной Яковлевой, с латышскими и эстонскими актерами. В общем, фестиваль для нас обеих был ярким событием.
Ира «заболела» кино. И с седьмого класса готовилась поступать во ВГИК к Эльдару Рязанову. Наш с мужем развод сломал ее планы. Школу она окончила уже в Омске и поступила на филфак в госуниверситет. Мне было спокойно, что она учится в городе, где мы, ее родители, всегда рядом. А актерскую мечту, пусть немножко, но воплотила в студенческом театре – играла в спектакле «Трудные дни» Островского.
Письма от Иринки – всегда радость: интересные, увлекательные.
«Мама, привет! У нас все хорошо. Работаем, учимся.
Отчитываюсь по Таиланду. Да уж… Создал же Господь такую красоту. Чудо чудное и диво дивное. От первой до последней секунды.
В Бангкоке практически не бывает голубого неба. Чаще серое небо, ну, а когда солнце, то просто очень ярко. Пугали, что сгорю, но загар постепенно ко мне прилипал, и только в последние два дня покоптилась от души, про запас.
Ездила на экскурсию – сплав по речке Квай: и обезьянок кормили, и на слониках катались, и на водопады ездили, и в родоновых источниках оздоравливались. По Бангкоку обзорная экскурсия впечатлила: Королевский дворец, Храм изумрудного Будды и Байон Скай. Будда очень маленький – 40 на 50 см, из цельного куска нефрита, а поставили на большую высоту, на постамент с подсветкой – аж дух захватывает! Байон Скай – самое высокое здание в Бангкоке: обедали на 77 этаже, смотровая – на 84-м (300 метров над землей). Так красиво!!!
Страна замечательная. Море изумительное, фруктов – миллион и очень дешево. Люди доброжелательные, улыбчивые, вежливые, приветливые. На улицах совершенно безопасно, хоть всю ночь гуляй, только автомобильное движение меня напрягало – у них левостороннее, я все время смотрела не в ту сторону…
Такие новости. Будешь в гостях у Коли, посмотришь фотки на компьютере. Пока. 03.03.09 г.».
РАССКАЗЫ
Сон
Ночь в хирургии прошла спокойно. Реанимация пустовала, что было крайне редко. Ружана, старшая медсестра хирургического отделения, обходила палаты и процедурные, готовясь к пятиминутке. В отделении царила привычная утренняя суета. По коридору порхали сестрички в накрахмаленных халатиках, в белых гольфах и светлой легкой обуви. Ружана отдавала последние распоряжения солдатам из команды выздоравливающих.
– Гугуладзе, что ты возишь голой шваброй по полу? Тряпку возьми большую, воды набери побольше. Не будешь работать, подам на выписку.
– Я – Гургуладзе, сколько раз говорил, зачем фамилию искажаете?
Из процедурной доносилось звяканье инструментов. Антибиотики перебивали запахом дезинфекционных средств. В отделении было жарко, не спасали открытые окна. Начало сентября в Венгрии – еще лето.
Военный госпиталь Южной группы войск находился в бывшей столице страны – Секешфехерваре. Уютный красивый городок, утопающий в садах. Множество привлекательных мест отдыха: кафе, бистро, ресторанчики, ночные дискотеки. Попасть служить сюда было непросто и офицерам, и гражданским по оргнабору. Хорошая зарплата, благополучная жизнь. Потому положением своим дорожили – отсюда шло процветание эгоизма, индивидуализма: атмосфера в коллективе, будь то госпиталь, общежитие или школа, складывалась по принципу «быть в стороне от всего, что тебя не касается».
Ружана работала в должности старшей медсестры второй год. Благодаря протекции знакомых, она попала сюда по оргнабору. Конечно, пришлось потратиться на подарки, благодарности, но это были мелочи по сравнению с реальной возможностью осуществить мечту о собственной квартире. Она устала жить в однокомнатной «хрущевке» вместе с мамой и сыном-старшеклассником. И вот счастье – шанс работы в госпитале за границей. Работала она добросовестно, была на хорошем счету у командования. Служить оставалось полгода, и Ружана планировала вызвать из Львова на летние каникулы сына.
Но планы нарушила… любовь. Она влюбилась в начальника хирургического отделения майора Хрусталева Игоря Николаевича. Он прибыл в госпиталь несколько месяцев назад. Выпускник академии, хирург, перспективный ученый, он попал в Южную группу войск без чьей-либо помощи, потому держался независимо. Был коренным ленинградцем из династии врачей: дед, отец, братья – все были военными хирургами. Его оценили сразу и офицеры, и медсестры – располагали воспитанность, веселый нрав, умение слушать, а также при случае поддержать компанию и застолье, но все в меру.
Рассказывали офицеры, будто однажды, возвращаясь ночью из госпиталя, он зашел с коллегой в корчму выпить пива, а уже через пять минут оба направились к выходу – в бессознательном состоянии. Их провожали изумленные взгляды местных клиентов. Как это могло случиться за пять минут, да еще с кружки пива? Разгадка оказалась проста: после напряженного дня, после тяжелейшей операции, закончившейся почти в полночь, коллеги покинули госпиталь с флаконом спирта. Спирт с пивом и – не помнили, как домой дошли, как поднялись на пятый этаж и разошлись по своим квартирам. Но все было прилично. И передаваемые детали о том случае звучали с мужским одобрением и пониманием. Другая история о нем вызывала уже более серьезное уважение: как-то он осадил замполита части, вмешивающегося в лечебную работу, и командир части поддержал его.
Пятиминутка началась точно в девять. Ружана, войдя в ординаторскую, села напротив стола начальника отделения, как-то обреченно сложила руки на коленях. Через минуту, ни на кого не глядя, достала блокнот, делая записи по ходу докладов сестер. Хрусталев бросал на нее короткие взгляды. Он был серьезнее обычного. С ходу задал пару вопросов дежурной медсестре:
– Почему нет анализа крови новенького, кто принимал его? Почему положили в общую палату?
Ружана, не поднимая головы, ответила за сестру:
– Все анализы готовы, сейчас принесут. Больного уже перевели в бокс.
– Спасибо, Ружана. Ольга, – он обернулся к дежурной медсестре, – я тебя в очередной раз предупреждаю… Результаты анализов на поступившего – немедленно. Мне лично. На стол. Контроль за каждым, Ружана: дала поручение, проверь исполнение. Все свободны, а вы задержитесь на минуту.
Игорь Николаевич сразу обратил внимание на бледность Ружаны, отчужденные глаза, темные круги под ними. Ему было неприятно, стыдно, что виной ее страданий – он. Отношения со старшей медсестрой у него сложились сразу романтически-покровительственные. Специалист она была прекрасный, могла дежурных заменить на любом посту. Спокойна, уравновешена. И как женщина понравилась с первого взгляда. Красивая, обаятельная, стройная, при формах (не худышка), косметикой пользуется без излишества. За точеный профиль, тонкие правильные черты лица он называл ее «Панацеей в белых одеждах». Ее античность проявлялась в плавности движений, неторопливости речи и прическе – пучком почти черных волос на затылке с оставленными завитками на висках и шее. С каждым днем он привязывался к ней все сильнее.
– Панацея ты моя. Как мне хорошо с тобой…
Она завораживала его своим голосом, тихим и печальным. Он ощущал ее любовь к себе. Радовался и пугался одновременно. Его тянуло к ней, уже не мог существовать даже в мыслях без нее.
Катя, жена Хрусталева, хрупкая, похожая на девочку, поначалу не очень беспокоилась по поводу очередного увлечения мужа. Но этим летом она почувствовала, что с ним происходит что-то необычное: стал молчаливым, исчезли шутки по утрам, часто возвращался домой за полночь, ссылаясь на загруженность. Как жена офицера, она привыкла к тому, что служба – самое важное, это мужской долг. И смиренно исполняла роль жены и матери, не задумываясь о будущем, разводы в среде военнослужащих случались крайне редко. Не имея специальности, не работая, она жила любовью к мужу и двум замечательным дочкам. Старшей было двенадцать лет – занималась музыкой, танцевала, младшей всего лишь два годика. Муж позволял себе порой развлечься на стороне, но считал, что семья – это святое.

