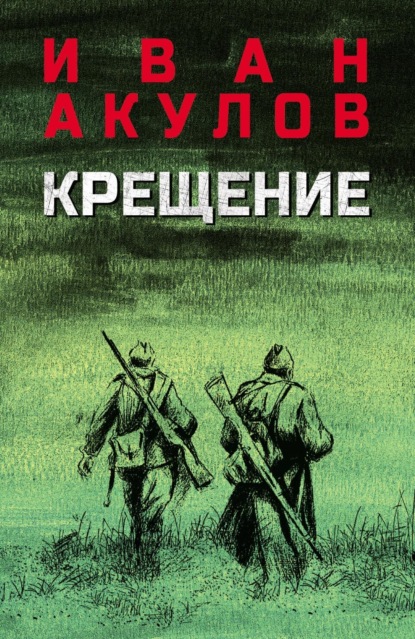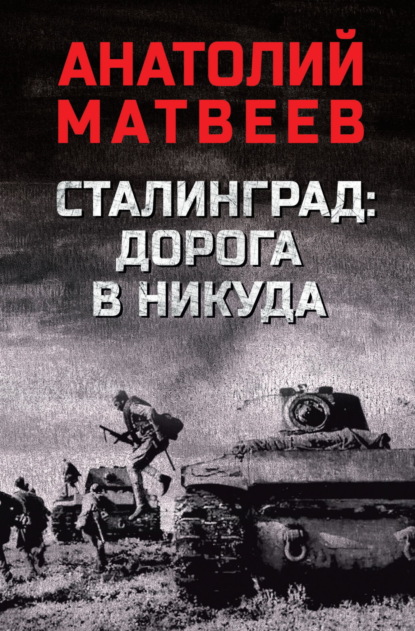Полная версия
Этот маленький город
Бутылок в мешке прибавилось. Он был полон только наполовину, когда они остановились возле одного дома, утонувшего в листьях, точно птичье гнездо. Очередь «выступать» была Степкина, и он закричал хрипловатым, ломающимся голосом:
– Тетенька!
Они везде кричали «тетенька», ибо кричать «дяденька» в военное время было просто бессмысленно. Правда, случалось, что на крик выходил какой-нибудь старичок, тогда они говорили «дедушка». Однако в этот раз на голос Степана вышла тетенька. Впрочем, она не вышла, а выплыла, но не как лебедь, а как утка, небольшая, с прилизанными, видимо, недавно вымытыми волосами.
– Здравствуйте, извините за беспокойство, – сказал Степка.
– Ну какое же там беспокойство? – очень громко и очень напевно ответила тетенька. Щеки и нос ее сморщились в улыбке, а глаза оставались маленькими, острыми, как шурупчики.
Она подошла к калитке и коснулась ее ладонями, белыми и пухлыми, точно пышки.
– Мы собираем бутылки, – сказал Степка. – Для фронта.
– Значит, правда, что всем красноармейцам дают по сто граммов, а командирам по двести? – спросила тетенька.
– Не знаю, – ответил Степка. – Мы собираем бутылки для танков.
– Для борьбы с танками, – поправила его Ванда.
– Вот так дела! – по-прежнему напевно, но с оттенком изумления произнесла тетенька.
– В них жидкость наливать специальную будут, – поспешно пояснил Степка. – А потом поджигать…
– Спичками? – еще более изумилась тетенька.
Степка беспомощно посмотрел на Любашу. Но было очевидно, что она тоже не знает, чем станут поджигать бутылки.
Нашлась Ванда. Она сказала:
– Жидкость особая. Она воспламеняется от удара.
Позднее Степан узнал, что Ванда объясняла не совсем правильно, но тогда он обрадовался ее ответу.
– Да, от удара… Для этого нужны большие бутылки. Не меньше чем на семьсот пятьдесят граммов.
– Есть такие бутылки, – сказала тетенька.
– Принесите! – попросил Степан.
– Как же я принесу? – опять изумилась тетенька. – Их очень много…
Бутылок действительно было много. И все из-под шампанского. Они лежали в старом, запущенном свинарнике. Двери свинарника висели на одной петле, крыша сильно прохудилась, и бутылки лежали грязные, запыленные.
– Все в мешок не влезут, – сказала Любаша. – Придем еще раз.
– В мешок все не войдут, – согласилась и тетенька. – Мешок мал.
Согнувшись, Степка сунулся было в свинарник, однако белая ладонь хозяйки легла на его плечо, легла мягко, но властно.
– Детки мои, – сказала она, сверля их взглядом. – Я отдам вам все бутылки, но за это ваша старшая, – тетенька остановила взгляд на Любаше, – пусть вымоет в комнатах полы.
От сильного волнения у Степки засосало под ложечкой. Любаша и дома сроду никогда полы не мыла, а тут – чужой холеной женщине… Степка не мог себе представить, что сейчас начнется. Возможно, этой наглой тетеньке повезет, и Любаша ограничится лишь словами, но кто может поручиться, что сестренка не приложит руку?
Любаша стояла с окаменевшим лицом, только глаза ее расширялись.
В тягостной и беспокойной тишине как-то очень просто прозвучал голос Ванды:
– Я тебе помогу, Люба.
Любаша качнула головой, словно стряхнула с себя оцепенение.
И совершенно спокойно сказала:
– Ты поможешь Степану. Один он не донесет мешок.
…Мешок оказался тяжести непомерной. Сколько потов сошло с ребят, пока дотащили они его до своего дома!
Потом они вновь, с пустым мешком, пошли к тетеньке. И бутылки вновь были тяжелыми, как камни. Но с ними возвращалась Любаша. И втроем нести мешок было легче.
– Какая гадина! – сказал Степка. – Вымойте полы за бутылки.
– Ничего, – вздохнула Любаша. – Я ей в каждую комнату по ведру воды вылила. Дня три полы сохнуть будут. Она, стерва, еще меня вспомнит…
Степка и Ванда посмотрели на Любашу.
4Отбой не давали. Сизый рассвет неторопливо обживал щель. Около часа слышалась далекая канонада: немцы бомбили аэродром в Лазаревской.
Степка стал зябнуть и вылез из убежища. Запрыгал, чтобы согреться. Ванда показалась за спиной. Пожаловалась:
– Я скоро стану маленькой старухой.
– Зачем? – спросил он.
– Ты думаешь, старятся от возраста?
– Факт.
– Нет. Вот и нет! Старятся от переживаний.
– А ты не переживай.
– Чемодан, – сказала Ванда.
– Где чемодан?
– Ты рассуждаешь, как чемодан.
– Чемоданы не рассуждают.
– Ты рассуждаешь – значит, и чемоданы рассуждают.
Он погнался за ней. Мокрые ветки хлестали его по лицу, по рукам. Ванда смеялась. И воздух был очень свежим и очень чистым. Худые лопатки Ванды двигались под платьем. И он не догнал ее: она сама остановилась. Он схватил ее за плечи. И впервые ощутил, как приятно (даже защемило сердце!) пахнет она вся.
Светало. Но солнце еще не пришло. И трудно было различить, где кончается небо и начинается море.
Мать крикнула из щели:
– Степан!
Но тут опять загудели паровозы. Только не так тревожно, как прежде. Отбой!..
Позавтракав, Степка вышел во двор и, осмотревшись, нет ли чего подозрительного, шмыгнул в подвал.
Низкая притолока оставила на его чубе кусок паутины. Степка пригнулся сильнее, запустил пальцы в волосы и с отвращением пытался нащупать паутину. Он терпеть не мог пауков и только делал вид, что не боится их.
Ящик, прикрытый рваным мешком, стоял в углу. И мешок лежал чуть наискосок, точно так, как его когда-то набросил Степка.
Он зажег спичку, заглянул на дно ящика. Все его «сокровища» лежали на месте. Степка вынул из-за пазухи гранату, которую выторговал у шофера Жоры, и положил в ящик.
Ванда увидела Степку, когда он вылезал из подвала.
– Что там делал? – поинтересовалась она.
– Искал напильник, – ответил он первое, что пришло в голову.
– Только испачкался…
А Ванда была чистенькая, в полосатом лилово-сиреневом платьице с белым воротничком и неизменным бантом – сегодня розового цвета. Она вертела в руках ключ.
– Угадай, что за ключ?
Степка был недоволен тем, что Ванда уже дважды замечала, как он наведывался в подвал, поэтому раздраженно ответил:
– От уборной.
– Хам! – вспыхнула Ванда.
– Пани… – усмехнулся он.
Она понурила голову, отошла, села на скамью.
Степан повертелся возле подвала, выглянул за калитку. На улице никого не было. Ему стало жаль Ванду, и он подошел к ней, сказал:
– Извини…
Ванда укоризненно посмотрела на Степана. Тихо призналась:
– Я так расстроилась.
– Невыдержанный я, – пояснил он. – Другой раз скажу, а уж потом подумаю.
– Так же нельзя, – перепугалась Ванда.
– Сам понимаю, нельзя. Только вот что-то не срабатывает во мне. А вдруг Люба права – я псих?
– Ерунда. Ты только не торопись, когда говоришь. Зачем тарахтишь как пулемет? Я раньше у тебя каждое третье слово не понимала.
– И сейчас не понимаешь?
– Привыкла.
– Значит, правда, когда привыкают к человеку, то не замечают его недостатков?
– Конечно.
Было часов десять утра. Небо немного хмурилось. И солнце состязалось с облаками, опережало их, и тогда четкие тени ложились на землю. Но чаще облака обгоняли солнце, и становилось пасмурно, будто перед дождем.
– Этот ключ оставила тетя Ляля, – сказала Ванда. – Она разрешила мне приходить в дом, играть на пианино.
– Эвакуировалась?
– В Сочи.
Тетя Ляля была маленькой, круглой, пожилой женщиной, которая одно время учила и Степку, и Ванду, и еще много других девочек и мальчиков игре на пианино. Призвание у Степки было к музыке такое же, как у слона к балету. Но его маме пришла блажь в голову. И Любаша, на которую часто «находило», поддержала мать. Он около года учил нотную грамоту. И даже однажды выступал в Доме пионеров, исполнял что-то в четыре руки с какой-то малокровной девчонкой.
…Степка понял, что Ванда не прочь пойти в дом тети Ляли и хочет, чтобы он пошел тоже.
– Ванда, если тебе охота постукать по клавишам, то нечего здесь сидеть. Но я к ним и не притронусь.
– Мы можем посмотреть альбомы и книги. Пошарить по ящикам… У тети Ляли много прехорошеньких мелочей.
– Она будет ругаться.
– Откуда она узнает? – Ванда вскочила со скамейки. – Я только принесу свои ноты.
– Зачем они? Может, ты и не станешь играть.
– А мама?
Конечно, мама должна думать, что Ванда примерная девочка. Что она только читает книжки, вышивает гладью, разучивает гаммы, а не шарит по чужим ящикам и не целуется с мальчишкой. Мама давно была маленькой, и в ее время дети были совсем другими.
Ванда вернулась с черной папкой, держа ее за длинные шелковистые шнурки.
Беатина Казимировна высунулась в окно, прикрытое гонкой, ветвистой алычой, что-то сказала дочери по-польски.
Ванда вежливо кивнула в ответ.
Степка спросил:
– Мать чем-то недовольна?
– Она сказала, если будет тревога, чтобы быстрей запирали дверь и спешили в щель.
Крыльцо немножко поскрипывало, низкое, выкрашенное яркой коричневой краской. А домик был зеленым и казался игрушечным.
На пианино лежал слой пыли, не очень густой, но разобрать, что Степка написал пальцем на крышке, было можно:
«Ванда + Степан =»
Он посмотрел на Ванду. Девочка вытянула мизинец и быстро закончила: «дружба».
Кажется, у него порозовели уши, во всяком случае, у нее порозовели точно. Не вытирая пыль, Ванда осторожно подняла крышку, села на круглый, вертящийся табурет и заиграла гамму.
Он стоял за ее спиной и смотрел то на пальцы, быстро бегающие по клавишам, то на бант, похожий на огромную бабочку. И не заметил, как в комнату вошли три красноармейца. Все трое были молоды и как-то очень похожи друг на друга. У них были винтовки, и скатки, и вещевые мешки.
А Ванда не видела, что они вошли, и продолжала играть.
Они некоторое время стояли молча. Потом один из них прислонил к стенке винтовку.
И тогда Ванда заметила всех. Растерянно сказала:
– Добрый день.
Красноармеец спросил:
– Можно я сыграю?
Ванда уступила ему место.
Он сел за пианино в скатке и при мешке. И сыграл «Синий платочек», а после «Чайку». Быстро, с душой.
Потом он поднялся, опустил крышку. И, конечно, увидел, что на ней написано. Он взял винтовку и, когда они уже выходили, вдруг повернулся и сказал:
– До свидания, Степан.
Ванда стояла пригорюнившись, обхватив пальцами подбородок, и мизинец, на котором еще остались следы пыли, оттопырился.
Красноармеец добро усмехнулся и добавил:
– Береги Ванду. Она у тебя хорошая.
Глава четвертая
1– Лодка не вернулась на базу…
И сразу с пугающей ясностью Нина Андреевна увидела тесные отсеки, наглухо задраенные переборочные двери, услышала басовитый гул электромоторов. Нет, нет! Она никогда не была на подводной лодке. Но, видимо, капитан 3-го ранга Шитов обладал способностями настоящего рассказчика, если она зримо представляла, как от близких взрывов глубинных бомб трясутся светильники, установленные на особых амортизаторах, как сыплется с потолка пробковая крошка и палуба вздрагивает, точно испуганный человек.
Адмирал был широколиц и массивен. Он смотрел не мрачно, но чуточку тяжеловато.
– Может, еще есть надежда? – спросила Нина Андреевна.
– В моем возрасте трудно верить в чудо.
Адмирал переживал пору зрелой мудрости, отличной от мудрости старого человека.
– Зачем же тогда пирог? – тихо сказала Нина Андреевна.
– Мы помянем Женю. Таков обычай.
– Понимаю, товарищ…
– Гавриил Васильевич, – подсказал адмирал.
– Понимаю, Гавриил Васильевич. Сделаю…
– Я хорошо знал семью Шитовых. Они жили в Одессе. Пироги с грибами изумительно пекла мать Жени. А он говорил, что вы, Нина Андреевна, на нее похожи.
Да, она помнила этот разговор. Женщины не забывают таких вещей. Не каждый же день они узнают, что выглядят старше своих лет. Она, например, узнала об этом, когда Женя Шитов, задержавшийся после ужина, вдруг сказал:
– Нина Андреевна, вы удивительно похожи на мою мать. И не только внешне, но и голосом. Когда я слышу ваш голос, мне делается не по себе.
Капитану 3-го ранга было, во всяком случае, не меньше двадцати шести. И Нина Андреевна в свои тридцать восемь лет никак не могла представить себя его матерью.
– Где ваша семья? – спросила она.
– В Одессе, – печально ответил он. – Вся семья моя осталась в Одессе. Жена, четырехлетняя дочь. И мать…
– Они не смогли эвакуироваться?
– Дом разбомбили… Соседи сказали, что и мать, и жена, и дочь ушли в катакомбы… Я теперь на боевые задания стремлюсь ходить к Одессе. И подолгу гляжу на нее в перископ…
В другой раз он рассказал, что его дочка любит мишек. Равнодушна к куклам, а мишек у нее – целая команда.
Однажды сказал:
– Я провожу вас.
Слова его прозвучали по-мальчишески бесхитростно. И хотя Нину Андреевну никто никогда не провожал с работы, она не возразила. Однако посоветовала:
– Вы бы лучше отдохнули, Женя.
– Нина Андреевна, а это идея! После войны я во главе своего женского экипажа прибуду отдыхать в Туапсе. Уверен: моя мамочка согласится, что на Черном море есть место для отдыха не менее великолепное, чем Одесса.
– Боюсь, мама ваша будет не в восторге. Нефтеперегонный завод сбрасывает в Туапсинку мазут.
– Как говорят в Одессе, вы шутите!
– Я говорю правду.
– В таком случае завод непременно возглавляют юмористы.
Они не пошли горами, а спустились на улицу Шаумяна, которую перегораживала баррикада. Ежи, сваренные из рыжих железнодорожных рельсов, светлели в густом сумраке, как дорожные указатели. Дома прятались в садах, за не опавшей еще листвой. Окна не светились. И тишина над улицей зависла какая-то церковная.
Темно-серое небо с красными прометами сползало за край горы, словно шарф, накинутый на плечи. Ветра не чувствовалось. Теплота, будто из ладоней, исходившая от земли, была духомятной и немного горькой.
Шитов шел не рядом, а на полшага сзади Нины Андреевны. Нес ее сумку. За всю дорогу он не произнес ни слова. Лишь у баррикады остановился, повел головой справа налево, медленно всматриваясь в наседавшую ночь. Сказал, будто подумал вслух:
– Страшно.
– Вам, Женя?
– Мне в море не страшно. Море оно вечное, оно неуязвимое. А земля как человек. Ведь ее, Нина Андреевна, и убить можно…
Они дошли до подножия горы, по склону которой тянулась улица, темная и безлюдная, как пустыня. Нина Андреевна сказала:
– Дальше не нужно, Женя.
Шитов посмотрел вверх, где в темноте, словно в воде, растворялись деревья, дома, заборы.
– Этот город всегда такой тихий?
– Шумно только в столицах.
Нина Андреевна никогда не была ни в Москве, ни в столице какой-нибудь республики, но от своих знакомых и сослуживцев, склонных к дальним вояжам, она слышала примерно одно и то же:
– Ой, как шумно! Ой, как шумно! И все куда-то спешат, спешат…
И она, казалось, слышала шум переполненных людьми и автомобилями улиц и верила в то, что сама была когда-то свидетелем этого.
Нет, для нее на земле не было милее города, чем Туапсе. Здесь она родилась, выросла, встретила человека, которого полюбила. Это случилось 8 апреля 1920 года, когда 9-я армия Уборевича выбила белых из Туапсе. На улицах города появились конники в шлемах с большими красными звездами. У Володи Мартынюка тоже был такой шлем, и чуб из-под него выбивался кудрявый и желтый.
Нине тогда было всего шестнадцать лет. Но она полюбила сразу. И Володя Мартынюк полюбил ее. И вернулся в Туапсе в двадцать третьем. А год спустя они поженились.
Что было потом? Все! Мытарства по квартирам в Краснодаре, где Володя учился на рабфаке. Голодный тридцать третий год. Двое маленьких детей, которых нечем кормить… Но была еще и любовь, и радость материнства. И светлое предвоенное время, когда жизнь наладилась и магазины ломились от товаров и продуктов…
Нет, она никуда не уедет из Туапсе. Никогда!
Адмирал спросил:
– К двадцати ноль-ноль успеете?
– Сейчас тесто поставим, – кивнула Нина Андреевна.
2Выйдя из столовой Военфлотторга, адмирал направился к своей машине. Болотные пятна камуфляжа делали ее похожей на жабу.
Захлопнув дверку, адмирал снял с седеющей головы фуражку, коротко бросил:
– В Анастасиевку.
Машина быстро набрала скорость и понеслась по улицам города. Глядя на выбитые окна, сорванные с петель двери, на баррикады, протянувшиеся через дорогу от стены к стене, адмирал невольно вспомнил Мадрид и подумал, что в горе люди похожи друг на друга. Даже если они говорят на разных языках.
Солнце лезло в ветровое стекло, слепило глаза. И адмирал, поправив пенсне, вновь надел фуражку, козырек которой обласкал лицо тенью. И боль покинула глаза, а теплота клубком скатилась вниз: к губам, к подбородку.
Горе сближает людей. А счастье… Разве счастье разобщает? Видел ли он, адмирал, коллективно счастливых людей? Свидетелем общей радости, ликования по случаю потопленного вражеского корабля или сбитого самолета он был много раз. Но можно ли поставить знак равенства между счастьем и радостью, между счастьем и ликованием? Скажем, могут ли быть счастливы одновременно все люди страны? Даже в радостный день победы будут улыбаться миллионы в общем-то далеко не счастливых людей, потерявших в войну отцов, матерей, сыновей…
Горе – оно цепче. Оно – как ночь. А счастье – солнце. Сколько ни светит, а тени остаются.
В кабине стало душно. Адмирал опустил боковое стекло. Ветер легко проник в машину. Он был прохладным, но не свежим – с запахами гари и разбитых зданий. Да, да, порушенные дома, большие и малые, имели свой особый запах – запах покинутого жилья, облущенной штукатурки, битого кирпича, рухнувшего застарелого дымохода.
В Мадриде адмирал принимал окружающие его запахи за нечто чисто испанское, национальное, подобное фиесте… Теперь он знает, что ошибался. Так же пахло в разбитой Одессе. Так же пахнет лежащий в развалинах Туапсе.
Машина резко затормозила. В двух метрах от радиатора стоял матрос с поднятым вверх красным флажком.
– Виноват, товарищ адмирал, проезд временно закрыт.
– В чем дело?
– Невзорвавшиеся бомбы.
– Много?
– Три. Уже разряжают.
– Кто?
– Бошелуцкий. Из штаба обороны.
Адмирал вышел из машины. Шоссе под старым асфальтом некруто взбиралось в гору. Три дома, справа над шоссе, были разрушены, кажется, недавно, потому что легкая пыль еще туманом висела между деревьями, а изломы не успели утратить свежести, что обязательно бывает, когда на них опустится ночная роса.
– Там опасно, – предупредил матрос с красным флажком.
– Продолжайте службу, – приказал адмирал.
Он пошел по дороге. Небыстро, степенно, как уже давно привык ходить, потому что служебное положение обязывало его пользоваться машиной, и он не часто имел возможность шагать вот так, по старому, заезженному шоссе, слышать хруст песка, стекол, щепок под каблуками и видеть дорогу, не стремительно мчащуюся, а медленно, по-черепашьи ползущую навстречу.
Бошелуцкий сидел верхом на бомбе, точно на лошади, обхватив ее корпус коленями. В руках он держал огромный разводной ключ, головка которого зажимала конусообразный взрыватель бомбы. Услышав звук шагов, Бошелуцкий повернул голову. Белесые, словно затянутые поволокой, глаза его не выразили удивления. Он только чуть передернул губами и с силой налег на рычаг.
Адмирал понимал, что вот сейчас, сию минуту, если ключ соскользнет, взрыватель сработает. Тогда на этом месте будет яма, судя по размеру бомбы, глубокая. Осенние дожди наполнят ее водой, которая вскоре зазеленеет от тины. И лягушки станут квакать пронзительно и монотонно.
Ключ не соскользнул. Красно-черный взрыватель мягко вывалился на заскорузлую ладонь Бошелуцкого. Редкие волосы старика были влажными от пота. Это было видно особенно хорошо потому, что солнце по-прежнему светило щедро и путалось в волосах, как зимой, случается, путаются снежинки.
Не спеша, с осторожностью Бошелуцкий поднялся на ноги и отнес взрыватель подальше от серого тела бомбы. Положил возле побитого осколками старого дуба, рядом с двумя другими, такими же красно-черными взрывателями.
Адмирал протянул старику руку.
Вскинув голову, Бошелуцкий как-то угловато сделал шаг вперед. И неожиданно звонким голосом сказал:
– Здравствуйте.
– Рад знакомству! – ответил адмирал.
Бошелуцкий покраснел от смущения.
– Воюем?
– Помаленьку, товарищ начальник.
– Пожалуй, здесь пострашнее, чем на фронте, – постучав носком ботинка по серому телу бомбы, сказал адмирал.
– Страшнее? Может, и нет. А ровно столько же… Но одно скажу… – Выгоревшая старенькая фуражка Бошелуцкого висела на черенке лопаты, торчавшей возле бомбы. Взяв фуражку, он закончил: – Фронтовые сто грамм, я считаю, мне непременно положены.
– Не дают?
– Никак нет.
– С завтрашнего дня станете получать.
– Вот за это спасибо.
– Спасибо вам, – сказал адмирал.
Они вместе вышли к шоссе. Простились, пожав руки. А когда машина с адмиралом уехала, Бошелуцкий, помявшись, сомнительно спросил матроса с красным флажком:
– Кто этот начальник будет, фронтовые мне пообещавший?
– Простота ты, отец… Это же командующий Туапсинским оборонительным районом контр-адмирал Гавриил Васильевич Жуков.
3Небо набухало синевой, сочной и свежей, как весенние почки. Густо выпавшая роса еще не утратила ночной прохлады и пахла листьями. Хмельно, терпко. Утро подпирало ночь. И горы помогали ему в этом.
А вот Ивану Иноземцеву не помогал никто. Он тащил на спине термос с кашей. Брезентовые лямки термоса были старыми, рваными. Кто-то скрутил их крепко-накрепко проволокой. И теперь она надсадно давила плечи. И правое, и левое.
Майор Журавлев категорически запретил Ивану ходить на кухню без оружия. Но кухня все-таки была в тылу, еще дальше, чем штаб полка, а кроме термоса с кашей, еще нужно нести хлеб, сахар, а иногда и консервы (благо чай они кипятили у себя в землянке), и обе руки Ивана всегда бывали заняты, и винтовка казалась ему в таких случаях просто обузой.
Иван прятал свою винтовку на нарах, под соломой. И покидал землянку с таким расчетом, чтобы не попадаться на глаза командиру полка.
Сейчас, прислушиваясь к шуму леса и к звукам собственных шагов, Иван ступал без суеты, спокойно. Кроме термоса он нес вещевой мешок с хлебом и сумку с махоркой и водочным довольствием. Конечно, при хорошей жизни от штаба на пищеблок должны ходить два человека. Но в полку и без того не хватало личного состава. И на плечи Ивана легли вот эти хозяйственные заботы.
Он пробирался на кухню трижды в сутки. И не сетовал на судьбу, потому что повара встречали его приветливо. Они же, конечно, знали, что Иноземцев не какой-нибудь там стрелок из отделения, а адъютант самого командира полка. Иван, разумеется, не злоупотреблял своим служебным положением, но от черпака ароматной гречневой каши, куда умелец в белом колпаке не жалеючи клал полбанки свиной тушенки, не отказывался.
Так уж был устроен Иван Иноземцев. Ведь щедро кормили в полку. Досыта. Но то, что повар лично приносил Ивану котелок каши и улыбался при этом уважительно, как бы возвращало Иноземцева в гражданскую жизнь, где он неизменно работал в торговле и где все младшие по чину так же угощали его, соблюдая традицию, быть может, идущую еще со старых купеческих времен.
Путь от штаба полка на кухню менялся часто. В обороне все еще не было стабильности. И полк обновлял позиции, иногда выдвигаясь вперед, иногда отступая, само собой, по приказу свыше. Все понимали, что последние приказы отдают скрепя сердце, но опыта военных действий в горно-лесистой местности не имели ни бойцы, ни командиры. И учились чаще на ошибках. И наука эта доставалась дорогой ценой, очень дорогой.
Утром, если не было дождя и стояла прохлада, идти на кухню и обратно было гораздо приятнее, чем днем, потому что днем жара еще нависала над горами. И дышать становилось тяжело, особенно мужчине такого веса, как Иноземцев. Ему всегда приходилось ходить без тропинок. И он научился запоминать местность, которая вначале казалась однообразной: кусты, горы, деревья. Он помнил, что кизиловый куст, растущий за скалистым склоном, имеет шесть крепких стволов, а кизил на пригорке – двустволый, словно рогатина. Он знал, будто старых знакомых, акации, каштаны и всякие другие деревья, служившие ему ориентиром. Если позиция не менялась неделю или больше, Иван накрепко успевал подружиться с деревьями, ручьями, скалами. И даже наделял их прозвищами, кличками. Дряхлую колючую акацию окрестил «тещей», молодой веселый дубок – «кудряшом», лысый большущий камень, за которым можно было отдохнуть четверть часа, величал «философом», дикую низкую грушу, что уцепилась за склон горы, «малышкой».
Этой дорогой Иван шел только четвертый раз. Накануне полк, поддержанный морячками, захватил три большие высоты. Господствующие! И тогда штаб и кухня передислоцировались вперед, на позиции, которые вчера занимали немцы.