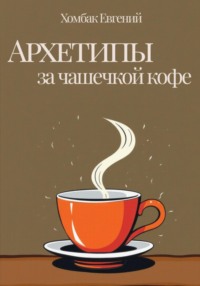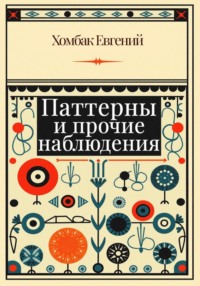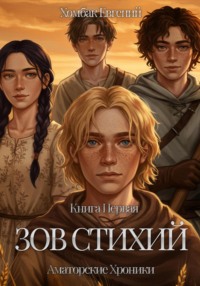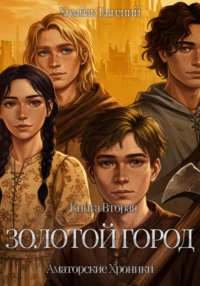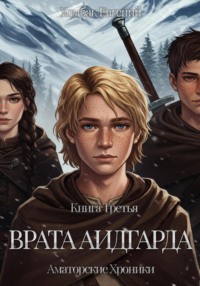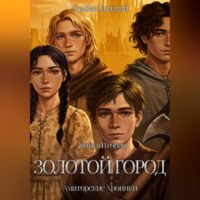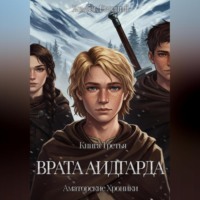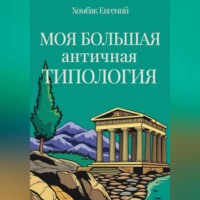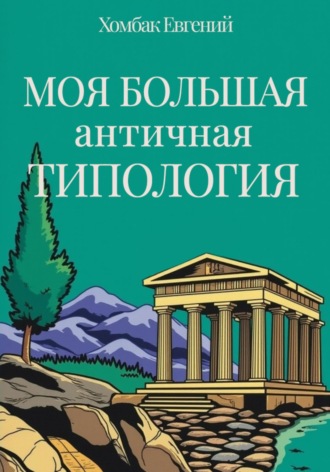
Полная версия
Моя большая античная типология
Я вздохнул, чувствуя, как легкое внутреннее беспокойство начинает постепенно, но неуклонно нарастать, словно туча на горизонте. В голове, словно разрозненные кусочки мозаики, начали складываться в некую смутную, но тревожную картину слова Димы, его уверенность, его искренняя обеспокоенность судьбой друга… Возможно, Дима, при всем своем, казалось бы, несколько эксцентричном поведении, и вправду был в чем-то прав, чувствовал что-то важное, но его прямолинейный, категоричный подход к решению проблемы по-прежнему казался мне чересчур радикальным и, мягко говоря, не совсем уместным.
– Дима, мне кажется, ты сейчас, сам того не осознавая, находишься во власти своей собственной тени, – задумчиво произнес я, стараясь подобрать наиболее точные и деликатные слова.
– Во власти чего-чего? Какой еще тени? – недоуменно переспросил он, явно не понимая, о чем именно я говорю. – То есть? Что это вообще значит, по-твоему, «во власти тени»? И что это за тень такая, если не секрет? – в его голосе прозвучало явное раздражение, смешанное с нескрываемым любопытством.
– Это значит, – попытался я объяснить, – что в этой предстоящей свадьбе, в ситуации с твоим другом и его невестой, ты, возможно, невольно видишь и отражаешь какие-то свои собственные, нерешенные проблемы, свои внутренние страхи и комплексы. Возможно, ты проецируешь на эту ситуацию свой собственный, не до конца реализованный потенциал, какие-то важные аспекты своей личности, которые ты сам, по тем или иным причинам, невольно отвергаешь, стараясь не замечать.
– Ну, это ты сейчас как-то слишком уж заумно загнул, – проворчал Дима, нахмурившись. – Если можно, объясни попроще, на более понятном языке. А то я, признаться, не совсем улавливаю ход твоей мысли. Какие, интересно, такие «нереализованные потенциалы» и «отвергаемые аспекты» я, по-твоему, могу проецировать на эту ситуацию? Можно как-то поконкретнее?
Дима на какое-то время задумался, словно пытаясь переварить мои слова и найти в них хоть какой-то рациональный смысл. Его взгляд стал более сосредоточенным, погруженным в себя, словно он и вправду пытался сложить в голове какой-то новый, неожиданный пазл, разгадать сложную головоломку.
– То есть, по твоей логике получается, что на самом деле это я… Я сам втайне хочу жениться? Что ли? – наконец, несколько неуверенно, словно продолжая свои размышления вслух, произнес он, погруженный в собственные мысли.
– А разве нет? – неожиданно прямо спросил я, выдерживая его взгляд.
– Ну, не знаю, на своей девушке я, пожалуй, точно не могу жениться, – неожиданно откровенно признался Дима, словно продолжая свой внутренний монолог. – Она, конечно, милая, интересная девушка, она мне, безусловно, нравится, но… Но между нами, как говорится, целая пропасть, непреодолимая стена непонимания. Она меня, по правде говоря, совершенно не понимает, да и, если честно, не особо и пытается. Да и, пожалуй, не только в этом дело. У меня, если быть до конца откровенным, возникает неприятное, почти навязчивое впечатление, что я, на самом деле, не так уж и сильно ее люблю, чтобы вот так, кардинально, менять свою жизнь, связывая себя узами брака. То люблю ее, словно теряя голову, то вдруг, неожиданно для самого себя, понимаю, что, по сути, не испытываю к ней никаких глубоких чувств, кроме легкой симпатии и, пожалуй, привычки. Странно все это, запутанно как-то…
– Дима, – осторожно произнес я, наблюдая за его искренней, почти детской растерянностью, – все, что ты сейчас говоришь, неожиданно откровенно и честно. Но, если ты хочешь знать мое мнение, мне кажется очевидным, что все эти противоречия, эти эмоциональные качели, это и есть самый настоящий, классический пример проявления теневого аспекта твоей психики. Возможно, даже, если использовать терминологию Аматорики, я бы даже рискнул предположить, что это проявление твоего Третьего Эроса.
Дима снова нахмурился, почувствовав в моих словах что-то непонятное и, возможно, даже неприятное. Было видно, что он совершенно не понимает, о чем именно я пытаюсь ему рассказать.
– Так, стоп, погоди-ка, что это за странные, загадочные слова? «тень», «третий эрос»… Ты сейчас точно со мной разговариваешь? А еще вот так, с ходу, легко и непринужденно, ставишь свои собственные, ничем не подкрепленные, «диагнозы»! – в его голосе, несмотря на раздражение, уже явственно прозвучало любопытство, словно его зацепило что-то в моих словах.
– Послушай, я же не настаиваю, я только осторожно предполагаю, – поспешил я успокоить его, желая смягчить возникшее напряжение. – И, поверь мне, это вовсе не «диагнозы», и не попытка навесить на тебя какой-то ярлык. Это всего лишь… Ну, скажем так, один из возможных вариантов интерпретации твоих слов и твоего поведения.
– Да, но откуда ты можешь знать, что на самом деле переживает другой, совершенно незнакомый тебе человек? – Дима по-прежнему смотрел на меня с явным, нескрываемым недоверием, но в его голосе уже звучала явная, почти детская нотка неподдельного интереса.
– Пойми правильно, я, конечно, не знаю доподлинно, что именно сейчас творится у тебя на душе, и что ты на самом деле переживаешь, – терпеливо объяснил я. – Я могу только предполагать, строить гипотезы, исходя из того, что вижу в твоем поведении, в твоих словах, в твоих отношениях с окружающим миром. Ведь каждый человек, постоянно, непрерывно, буквально каждой своей фразой, каждым своим поступком, выражает свое личное, уникальное отношение к окружающему миру, порой даже не осознавая этого до конца. Вот и ты сейчас, рассказывая мне, совершенно незнакомому человеку, о своих сомнениях, о своих чувствах, о своих переживаниях по поводу свадьбы друга, уже невольно сказал мне о себе, на самом деле, очень и очень многое. Исходя из всего этого, вполне можно сделать некоторые, пусть пока и предварительные, выводы.
– Ну, это ты сейчас, конечно, загнул, – резко ответил Дима, но в его голосе, как я заметил, уже не было прежней, непоколебимой уверенности и категоричности. – Ты, по-моему, просто выдаешь желаемое за действительное, представляешь себе то, чего на самом деле и в помине нет. Это все, как говорят ученые, обыкновенное выборочное внимание, не более того, знаешь ли.
– Согласен, конечно, выборочное, спору нет, – покладисто согласился я, стараясь во что бы то ни стало не обострять и без того напряженную ситуацию. – Но, позволь мне заметить, твоя личная «выборка», в данном случае, делается, поверь мне, вовсе не на пустом месте, а на вполне определенной основе, на основе того, что ты сам, по своей доброй воле, только что рассказал мне. И это, Дима, уже вовсе не просто случайные, беспорядочные наблюдения, это самые настоящие закономерности, которые вполне отчетливо проявляются в твоих словах, в твоих поступках, в твоих реакциях. Ведь если что-то постоянно, из раза в раз, неизменно повторяется, значит, это, согласись, уже имеет определенную, вполне устойчивую форму, а если оно имеет устойчивую форму, то это, как ни крути, уже самая настоящая, закономерная работа твоей психики, хочешь ты того или нет.
Дима снова надолго замолчал, словно погрузившись в глубокие размышления, стараясь переварить мои, несколько неожиданные и непривычные для него, слова. Я видел, что он искренне пытается понять, как именно связать мои, пока еще не совсем понятные, рассуждения с его собственным жизненным опытом, с его личными переживаниями, и это, несомненно, вызывало в его душе определенный, не всегда приятный, внутренний конфликт, некое столкновение привычных представлений с чем-то новым и неизведанным. Наконец, спустя пару минут молчания, он резко поднял голову, и в его темных глазах, словно слабый луч света в густом тумане, неожиданно мелькнуло что-то отдаленно похожее на понимание.
– То есть, если я правильно тебя понял, по-твоему получается, что мое навязчивое, почти маниакальное желание во что бы то ни стало расстроить свадьбу друга, – это на самом деле не что иное, как мое подсознательное, глубоко запрятанное желание… Жениться самому? – неожиданно тихо, почти шепотом, спросил он, словно боясь вслух произнести столь крамольную мысль, и в его голосе, на этот раз, уже явно прозвучало заметное смягчение, агрессия и скептицизм, казалось, постепенно отступали на второй план.
– Дима, пойми правильно, я не утверждаю ничего наверняка, – мягко ответил я, стараясь не давить на него, и не настаивать на своей точке зрения. – Я лишь хочу сказать, что все мы, без исключения, – это, в конечном счете, продукт наших собственных мыслей, наших личных переживаний, нашего воспитания, нашего жизненного опыта. То, как именно мы видим окружающий мир, как воспринимаем других людей, как реагируем на те или иные события, – все это прямое и неизбежное следствие определенных, часто неосознаваемых, психических процессов, постоянно происходящих внутри нас. И понимание этих процессов, их классификация, их типологизация, может открыть перед нами совершенно новые, неожиданные горизонты самопознания.
– Так, погоди-ка, я, кажется, начинаю что-то понимать, – Дима вдруг оживился, словно вспомнив что-то важное. – Так ты, по-твоему, получается, психолог, и даже не психолог… Психоаналитик, что ли!? – неожиданно воскликнул он, с легким недоверием и иронией в голосе.
– Не совсем, – улыбнувшись, поправил я его, – аналитический психолог. И, если быть точным, не только психолог, но еще и типолог, и даже, если хочешь знать, автор собственной типологии.
– А-а, ну теперь все более или менее ясно, – протянул Дима с легкой усмешкой. – Значит, ты из этих… Из тех, кто верит в экстравертов и интровертов? Всю эту, с позволения сказать, «науку» мы, признаться, тоже изучали в университете, на курсе психологии, и, знаешь, что я тебе скажу честно, без обид? Мне, если честно, вся эта, с позволения сказать, «типология» как-то вот совсем не пригодилась в реальной, практической жизни. Как-то все это слишком абстрактно и оторвано от реальности, по-моему.
– Или, может быть, ты просто, по каким-то причинам, до сих пор так и не разобрался в ней до конца? – не без иронии заметил я, поддерживая его шутливый тон. – Те открытия, которые сделал Карл Густав Юнг необычайно популярны и востребованы в мире, настолько что породили научные направления в психологии и даже новые типологии, такие как, например, широко известный MBTI в Соединенных Штатах и, не менее популярная, Соционика в Советском Союзе.
– О-о, ну, это ты уже, по-моему, совсем в дебри «лженауки» полез, – скептически заметил Дима, слегка нахмурившись. – Про MBTI и Соционику я, признаться, тоже что-то краем уха слышал, и даже, кажется, что-то читал об этом в интернете. И, если честно, у меня сложилось стойкое впечатление, что все это, мягко говоря, не совсем серьезно.
– Ну, тут я, пожалуй, не буду с тобой спорить, – спокойно согласился я, стараясь не вступать в бессмысленный спор. – Официальная, «академическая» наука, действительно, относится ко всем типологиям, включая MBTI и Соционику, весьма скептически. Скажем так, есть традиционная, официальная психология, которая, безусловно, опирается на строгие научные критерии, на доказательную базу, на объективность и воспроизводимость результатов. В рамках академической психологии широко используются разнообразные психологические тесты, опросники, статистические методы, которые позволяют с большей или меньшей степенью достоверности обнаружить определенные, статистически значимые закономерности в человеческой психике. Типологии тоже стараются идти по этому пути и накапливать статистический материал.
– Ну, хорошо, допустим, с этим более или менее понятно, – согласился Дима, слегка кивнув головой. – Но, если не секрет, твоя-то, авторская, типология про что? Про что именно ты пытаешься типировать людей?
– Моя типология, – ответил я, – посвящена самой загадочной сфере человеческих отношений –любви. Возможно по культурологии, еще на первом курсе университета, ты изучал, что на самой заре человеческой цивилизации, понятия любви, в том виде, в каком мы привыкли понимать его сейчас, как такового, по сути, еще просто не существовало. Культура, как таковая, только начинала робко зарождаться, делать свои первые, неуверенные шаги, но, тем не менее, люди, уже тогда, в незапамятные времена, несомненно, заботились друг о друге, искренне стремились предупредить ближнего об опасности, поделиться последним куском хлеба, разделить радость и горе, помочь в беде. То, что мы сегодня, в XXI веке, привыкли называть высоким словом «любовь», тогда, на заре цивилизации, было, скорее инстинктивным, глубинным стремлением к выживанию, к продолжению рода, к сохранению своего племени, своей общины. Однако, по мере неуклонного развития культуры, эти базовые, животные инстинкты постепенно обрастали все новыми и новыми смыслами, наполнялись сложными эмоциональными оттенками, формировались устойчивые моральные и этические нормы, и постепенно, век за веком, складывалось то самое многогранное, непостижимое понятие любви, в том сложном и противоречивом виде, в каком мы знаем его сегодня.
– То есть, если я тебя правильно понял, любовь, как сложное, многогранное понятие, – это, по сути, лишь результат длительного и сложного культурного развития человечества? – уточнил Дима, стараясь осмыслить услышанное и уложить в голове новую, несколько неожиданную для него, информацию.
– Именно так, совершенно верно, – подтвердил я, удовлетворенно кивнув головой. – Понятие любви, в том виде, в каком мы знаем его сегодня, не возникло в одночасье, по мановению волшебной палочки. Это понятие, как и сама человеческая культура, развивалось, менялось, трансформировалось вместе с человечеством, век за веком, постепенно обрастая все новыми и новыми смыслами. И, с течением времени, люди, наконец, начали отчетливо осознавать, что любовь – это вовсе не просто примитивный инстинкт, не только стремление к продолжению рода, но и нечто гораздо более глубокое, тонкое и многогранное, неразрывно связанное с высшими, эмоциональными и даже духовными, аспектами человеческой жизни. Древние греки, как ты, вероятно, помнишь, стали, пожалуй, одними из первых, кто попытался по-настоящему систематизировать, классифицировать эти самые разные, порой противоречивые, аспекты любви, и, благодаря их мудрости и проницательности, мы, и по сей день, с благодарностью пользуемся такими емкими и точными терминами, как Эрос, Филия, Сторге и Агапе, пытаясь с их помощью постичь непостижимую тайну любви.
– Хм, интересно, – задумчиво произнес Дима, стараясь осмыслить услышанное. – Получается, что еще задолго до Древней Греции, любовь, как таковая, уже вполне себе существовала, как явление, но просто еще не имела четких, осознанных категорий, не была, так сказать, «классифицирована»?
– Совершенно верно, именно так, – подтвердил я. – Любовь, в самых разных ее проявлениях, всегда была неотъемлемой частью человеческой жизни, во все времена, во всех культурах, но вот именно само понятие любви, как таковое, как целостная, осознанная категория, не было четко сформулировано и осмыслено вплоть до определенного момента. Люди, безусловно, заботились друг о друге, воспитывали детей, создавали родовые общины, племена, города, но у них, попросту говоря, еще не было подходящих слов, подробных описаний, точных терминов, чтобы адекватно описать, выразить и классифицировать все эти сложные, тонкие, многогранные чувства. Со временем, когда культура и философия начали стремительно развиваться, достигая новых вершин, древние греки, словно мудрые первопроходцы, наконец, сумели дать этим вечным, неуловимым чувствам точные, краткие названия, и, что еще важнее, впервые попытались по-настоящему объяснить их глубинную, непостижимую природу, разложив сложное понятие любви на простые, понятные составляющие.
– И, все же, согласись, времена Древней Греции остались, мягко говоря, далеко позади, – заметил Дима, слегка нахмурившись. – Зачем, спрашивается, нам, людям XXI века, нужны все эти древние, пыльные понятия, эти философские категории в наш век торжества науки, высоких технологий и искусственного интеллекта? Неужели все это может иметь хоть какое-то практическое значение в современной жизни?
– Дима, несмотря на все стремительные внешние изменения, технический прогресс и культурные трансформации, базовая сущность человеческой природы, поверь мне, на самом деле, остается практически неизменной, – уверенно ответил я. – Люди, как и тысячи лет назад, по-прежнему будут дружить, любить, ревниво ненавидеть, искренне заботиться друг о друге, создавать семьи, воспитывать детей, предавать и прощать, радоваться и горевать, даже через тысячи лет, когда от нынешней цивилизации, возможно, останутся лишь бледные воспоминания. И, пусть в разные исторические периоды понятие любви, безусловно, неизбежно трансформируется, обрастая новыми смыслами и оттенками, его глубинная, базовая основа, его вечная, неизменная суть, по моему глубокому убеждению, все же остается неизменной, почти нетронутой временем. К примеру, современные научные исследования, безусловно, вполне успешно могут объяснять любовь через призму сложных биохимических реакций, неуловимых химических процессов, постоянно происходящих в человеческом мозге, через влияние гормонов, нейромедиаторов и нейропсихологических процессов. Но, несмотря на все эти, безусловно, важные и интересные, научные открытия, культурные и философские аспекты любви, ее вечные, неизменные категории, по-прежнему, как мне кажется, остаются актуальными, важными и, в каком-то смысле, даже незаменимыми для полного и глубокого понимания этого сложного, многогранного явления, которое мы называем любовью.
– И, как же, по-твоему, на протяжении всей человеческой истории, любовь, как понятие, все-таки менялась, трансформировалась, обрастала новыми смыслами? – спросил Дима, уже не пытаясь спорить, а, напротив, явно увлеченный неожиданно развернувшейся беседой.
– Например, – начал я объяснять, – в разные исторические эпохи и в разных социальных группах, как ты понимаешь, всегда существовали свои собственные, порой весьма отличные от современных, представления о том, что именно следует считать «настоящей любовью», каковы ее основные признаки и проявления. В античные времена, например, любовь, особенно в философских трактатах, часто рассматривалась, прежде всего, как нечто возвышенное, благородное, неразрывно связанное с добродетелью, мудростью и стремлением к высшему благу. В Средние века, в эпоху рыцарства и куртуазной любви, любовь была тесно связана с религией и духовностью, с поклонением Прекрасной Даме и служением Богу. В более поздние времена, в эпоху пышного и противоречивого романтизма, любовь, напротив, стала все чаще восприниматься как нечто иррациональное, страстное, порой даже мучительное и разрушительное, как всепоглощающая стихия, которая способна как вознести человека на вершину блаженства, так и низвергнуть в пучину отчаяния. В XX же веке, в век торжества науки и рационализма, любовь, как я уже говорил, стали все чаще и чаще объяснять, прежде всего, с точки зрения строгой психологии и холодной биологии, пытаясь свести ее к набору химических реакций и инстинктивных программ.
– Ну, вот это, последнее объяснение, мне, признаться, как-то ближе и понятнее, – неожиданно признался Дима, слегка улыбнувшись. – Поэзия, рыцарство, романтизм, страсть… Это, конечно, все звучит красиво и возвышенно, но как-то уж слишком далеко от реальности, по-моему. А вот химия, биология, инстинкты… Это уже, как говорится, что-то более конкретное и знакомое, более близкое к жизни, что ли.
– И это, Дима, на самом деле, вовсе не удивительно, – поддержал я его точку зрения. – Ведь каждый из нас, согласись, неизбежно воспринимает любовь, прежде всего, через призму своей собственной культуры, своего личного воспитания, своего индивидуального жизненного опыта, своих глубинных ценностей и убеждений. Но, несмотря на все эти неизбежные различия в восприятии, несмотря на все культурные и исторические трансформации, любовь, как таковая, неизменно остается той самой могущественной, непостижимой силой, которая, во все времена, объединяет людей, помогает им преодолевать трудности, справляться с жизненными испытаниями и, в конечном итоге, находить глубокий смысл в самой жизни, несмотря на все ее неизбежные противоречия и сложности.
– Но ведь любовь, как ты сам говоришь, может быть такой разной, такой многоликой, – сказал Дима, немного помолчав, словно переваривая услышанное. – Как же, в таком случае, можно вообще пытаться классифицировать, раскладывать по полочкам, что-то столь неуловимое, столь многогранное и противоречивое? Разве это вообще возможно – типизировать любовь?
– Именно поэтому, Дима, – улыбнулся я, – и существует насущная, постоянно растущая потребность в создании, разработке и применении различных типологий любви, которые, пусть и не претендуют на полное и исчерпывающее описание этого непостижимого явления, но, тем не менее, помогают нам хотя бы немного лучше понять, как именно проявляется любовь в самых разных формах, как она влияет на наше поведение, на наше восприятие окружающего мира, на наши отношения с другими людьми. И, что особенно важно, речь в данном случае идет вовсе не только о пресловутой романтической любви, которой, как правило, все и ограничивается в обыденном сознании, но и о дружбе, о заботе, о духовной привязанности, о родительской любви, о самых разных, порой неожиданных и парадоксальных формах проявления этого вечного, непостижимого чувства.
– То есть, если я правильно понял, твоя типология, – это, по сути, своеобразный инструмент для систематического изучения любви, попытка ее классификации и анализа? – уточнил Дима, в его взгляде появился неподдельный интерес.
– Совершенно верно, – кивнул я, чувствуя, как в душе разливается теплое чувство удовлетворения. – Аматорика – это именно типология, которая, как я надеюсь, поможет нам с тобой, и, возможно, не только нам, более глубоко и осознанно классифицировать и анализировать различные, порой весьма запутанные, формы проявления любви. Она позволит нам, если угодно, увидеть, как именно эти разнообразные формы вечного чувства взаимодействуют между собой, как они влияют на наше поведение, на наше восприятие других людей, на наш выбор жизненного пути. И, хотя современные, строго научные подходы, безусловно, вполне успешно могут объяснять любовь через сложные биохимические процессы, философские и культурные аспекты этого вечного явления, несомненно, по-прежнему остаются важнейшей, неотъемлемой частью нашего общего, человеческого понимания того, что же такое любовь, и как именно она проявляется в нашей жизни.
Дима снова задумался, словно переваривая услышанное, и в его взгляде, впервые за весь наш разговор, появился неподдельный, искренний интерес, сменивший прежний скепсис и иронию. Возможно, в глубине души он и вправду начал постепенно понимать, что его внезапная, почти маниакальная решимость вмешаться в личную жизнь друга, расстроить его свадьбу, – это, в конечном счете, тоже лишь одно из косвенных, неосознанных проявлений его собственного, субъективного восприятия окружающего мира, его личных, не всегда осознанных, страхов, сомнений и глубоко запрятанных переживаний.
– Погоди-ка, – вдруг оживился он, словно что-то важное и долгожданное, наконец, вспомнив. – Если ты в этом и вправду так хорошо разбираешься, как говоришь, то, может быть, ты, в таком случае, сможешь помочь и мне? Разобраться во всем этом… В моей собственной «тени», в моем «третьем эросе»? – закончил он, неожиданно улыбнувшись, словно признавая свое поражение в негласном споре.
Я не смог сдержать ответной улыбки. Внутри меня вдруг разлилось какое-то приятное, теплое и обнадеживающее чувство, когда я, наконец, отчетливо понял, что, возможно, смогу не только помочь Диме хоть немного разобраться в его собственных чувствах, страхах и переживаниях, но и, в процессе этого нежданного диалога, углубить и расширить свои собственные, еще не до конца оформленные, размышления о типологии любви, найти новые, неожиданные грани в моей теории.
– Хорошо, Дима, договорились, – твердо сказал я, с готовностью протягивая руку для дружеского рукопожатия. – Будем держаться вместе, помогать друг другу, и постараемся, как говорится, извлечь максимум пользы и удовольствия из этого неожиданного, но, надеюсь, интересного и плодотворного путешествия.
Мы крепко пожали друг другу руки, и в этот самый момент такси, слегка вильнув на повороте, неожиданно свернуло с широкой дороги на узкую, петляющую серпантином, дорожку, ведущую, как я понял, прямо к старинному, поросшему плющом и виноградом, дому, где, собственно, и должно было состояться свадебное торжество. Впереди, за поворотом дороги, нас ждали несколько дней непрерывного праздника, неспешных разговоров под южным солнцем, новых, неожиданных встреч и, кто знает, возможно, поистине судьбоносных открытий. Я почему-то отчетливо чувствовал, что это время, проведенное на солнечном острове, станет для нас обоих не просто приятным отдыхом вдали от дома, но и важным, незабываемым этапом в совместном поиске вечных смыслов и понимания того, что же такое на самом деле любовь, и как именно это вечное, непостижимое чувство проявляется в жизни каждого из нас, таких разных, но, в то же время, чем-то неуловимо похожих, людей.