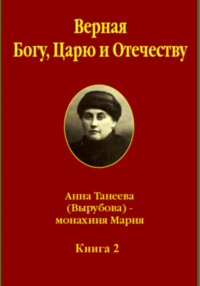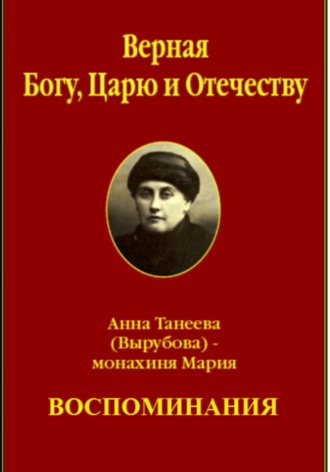
Полная версия
Верная Богу, Царю и Отечеству. ВОСПОМИНАНИЯ

Фото 54. Анна дома после двух месяцев госпиталя. Весна 1915 г.
После двух месяцев мои родители и Карасёва настояли, чтобы меня перевезли домой. Там, по просьбе друзей, меня осмотрел профессор Гагенторн. Он так и развёл руками, заявив, что я совсем потеряю ногу, если на другой же день мне не положат гипсовую повязку на бедро. Два месяца нога моя была только на вытяжении, и лишь одна голень в гипсовой повязке; сломанное же бедро лежало на подушках. Гагенторн вызвал профессора Фёдорова. Последний, чтобы быть приятным г-же Гедройц и косвенно Государыне, которая верила ей, не желал вмешиваться в неправильное лечение. Гагенторн не побоялся высказать своё мнение и очень упрекал Федорова. Оба профессора, в присутствии Её Величества, в моей маленькой столовой на столе положили мне гипсовую повязку. Я очень страдала, так как хлороформа мне не дали. Государыня была обижена за Гедройц и первое время сердилась, но после дело обошлось. Гедройц перестала бывать у меня, о чём я не жалела.

Фото 55. Болезнь отступает. Весна 1915 г.
Каждый день в продолжение почти 4 месяцев Государыня Мария Феодоровна справлялась о моём здоровье по телефону. Многие добрые друзья навещали меня. Её Величество приезжала по вечерам. Государь был почти всё время в отсутствии. Когда возвращался, был у меня с Императрицей несколько раз, очень расстроенный тем, что дела наши на фронте были очень плохи. Помню, как тронута я была, когда на страстной неделе Их Величества заехали проститься со мной до исповеди. Доктора пригласили сильного санитара по фамилии Жук, который стал учить меня ходить на костылях. Он же меня вывозил летом в кресле во дворец и в церковь, после шести месяцев, что я пролежала на спине.
Летом 1915 г. Государь становился всё более и более недовольным действиями на фронте Великого Князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что русскую армию гонят вперёд, не закрепляя позиций и не имея достаточно боевых патронов. Как бы подтверждая слова Государя, началось поражение за поражением; одна крепость падала за другой, отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец, Варшаву. Я помню вечер, когда Императрица и я сидели на балконе в Царском Селе. Пришёл Государь с известием о падении Варшавы; на нём, как говорится, лица не было; он почти потерял своё всегдашнее самообладание.
– Так не может продолжаться, – воскликнул он, ударив кулаком по столу, – я не могу всё сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромляют армию; я вижу ошибки – и должен молчать! Сегодня говорил мне Кривошеин, – продолжал Государь, – указывая на невозможность подобного положения.
Государь рассказывал, что Великий Князь Николай Николаевич постоянно, без ведома Государя вызывал министров в Ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России. После падения Варшавы Государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина, или Государыни, или моей, стать самому во главе армии; это было единственно его личным непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побеждён.
– Если бы вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии, – говорил неоднократно Государь.
Свидетельствую, так как я переживала с ними все дни до его отъезда в Ставку, что Императрица Александра Феодоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге Жильяр [M. Gilliard], и что будто из-за сплетен, которые я распространяла о мнимой измене Великого Князя Николая Николаевича, Государь решил взять командование в свои руки. Как мало Государь обращал внимание на такие толки о Великих Князьях, доказательством служит тот факт, что он не обратил внимания на известное письмо княгини Юсуповой (и телеграмму), о которых пишу в главе XI. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть Великого Князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моём присутствии.

Фото 56. Государь, Государыня и Алексей Николаевич. 1915 г.
Ясно помню вечер, когда был созван Совет Министров в Царском Селе. Я обедала у Их Величеств до заседания, которое назначено было на вечер. За обедом Государь волновался, говоря, что, какие бы доводы ему ни представляли, он останется непреклонным. Уходя, он сказал нам:
– Ну, молитесь за меня!
Помню, я сняла образок и дала ему в руки. Время шло, Императрица волновалась за Государя, и когда пробило 11 часов, а он всё ещё не возвращался, она, накинув шаль, позвала детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные шторы в ярко освещённой угловой гостиной были видны фигуры заседающих; один из министров, стоя, говорил. Уже подали чай, когда вошёл Государь, весёлый, кинулся в своё кресло и, протянув нам руки, сказал:
– Я был непреклонен, посмотрите, как я вспотел!
Передавая мне образок и смеясь, он продолжал:
– Я всё время сжимал его в левой руке. Выслушав все длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так: «Господа! Моя воля непреклонна, я уезжаю в Ставку через два дня!» Некоторые министры выглядели как в воду опущенные!
Государь назвал, кто более всех горячился, но я теперь забыла и боюсь ошибиться.
Государь казался мне иным человеком до отъезда. Ещё один разговор предстоял Государю – с Императрицей-Матерью, которая наслышалась за это время всяких сплетен о мнимом немецком шпионаже, о влиянии Распутина и т. д. и, думаю, всем этим басням вполне верила. Около двух часов, по рассказу Государя, она уговаривала его отказаться от своего решения. Государь ездил к Императрице-Матери в Петроград, в Елагинский Дворец, где Императрица проводила лето. Я видела Государя после его возвращения. Он рассказывал, что разговор происходил в саду; он доказывал, что если будет война продолжаться так, как сейчас, то армии грозит полное поражение, и что он берёт командование именно в такую минуту, чтобы спасти Родину, и что это его бесповоротное решение. Государь передавал, что разговор с матерью был ещё тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга.
Перед отъездом в армию Государь с семьёй причастился Св. Тайн в Фёдоровском соборе; я приходила поздравлять его после обедни, когда они всей семьёй пили чай в зеленой гостиной Императрицы.

Фото 57. Государыня Императрица Александра Феодоровна 1915.
Из Ставки Государь писал Государыне, и она читала мне письмо, где он писал о впечатлениях, вызванных его приездом. Великий Князь был сердит, но сдерживался, тогда как окружающие не могли скрыть своего разочарования и злобы:
– Точно каждый из них намеревался управлять Россией!
Я не сумею описать ход войны, но помню, как всё, что писалось в иностранной печати, выставляло Великого Князя Николая Николаевича патриотом, а Государя орудием германского влияния. Но как только Помазанник Божий встал во главе своей армии, счастье вернулось русскому оружию и отступление прекратилось.
Один из величайших актов Государя во время войны – это запрещение продажи вин по всей России. Государь говорил:
– It is horrid the government would profit through the people’s drinking, in this matter Kokovtzev is in fault (ужасно, если правительство будет извлекать доход из народного пьянства – в этом Коковцев не прав). Хоть этим вспомнят меня добром, – добавил он.
Государь от души радовался, когда слышал, как крестьяне богатеют и несут свои сбережения в Крестьянский банк. Французский писатель Anet пишет: «c’est Nicolas II, c’est l’Empereur detrone` qui a gard`e l’honneur d’avoir realis`e la plus grande reforme interieure qui a et`e accomplie dans le pays en guerre aujourd’hui – c’est la suppression d’alcoolisme»54
В октябре Государь вернулся ненадолго в Царское Село и, уезжая, увёз с собой Наследника Алексея Николаевича. Это был первый случай, что Государыня с ним рассталась. Она очень о нём тосковала, – и Алексей Николаевич ежедневно писал матери большим детским почерком. В 9 часов вечера она ходила наверх в его комнату молиться – в тот час, когда он ложился спать.
Государыня весь день работала в лазарете.
Железная дорога выдала мне за увечье 100`000 рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали с 60 человек, а потом расширили на 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть несколько облегчить их жизнь в будущем. Ведь по приезде домой на них в семьях стали бы смотреть, как на лишний рот! Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплётчиков. Лазарет этот сразу удивительно пошёл, но и здесь зависть людская не оставляла меня: чего только ни выдумывали. Вспоминать тошно! Но что впоследствии, может быть, не раз мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции, показывает, что всё же есть люди, которые помнят добро.
Невзирая на самоотверженную работу Императрицы, продолжали кричать, что Государыня и я германские шпионки. В начале войны Императрица получила единственное письмо от своего брата, Принца Гессенского, где он упрекал Государыню в том, что она так мало делает для облегчения участи германских военнопленных. Императрица со слезами на глазах говорила мне об этом. Как могла она что-либо сделать для них? Когда Императрица основала комитет для наших военнопленных в Германии, через который они получали массу посылок, то газета «Новое время» напечатала об этом в таком духе, что можно было подумать, что комитет этот в Зимнем Дворце основан, собственно, для германских военнопленных. Кто-то доложил об этом графу Ростовцеву, секретарю Её Величества, но ему так и не удалось поместить опровержение.
Все, кто носил в это время немецкие фамилии, подозревались в шпионаже. Так, граф Фредерикс и Штюрмер, не говорившие по-немецки, выставлялись первыми шпионами; но больше всего страдали несчастные балтийские бароны; многих из них без причины отправляли в Сибирь по распоряжению Великого Князя Николая Николаевича, в то время как сыновья их и братья сражались в русской армии. В тяжёлую минуту Государь мог бы скорее опереться на них, чем на русское дворянство, которое почти всё оказалось не на высоте своего положения. Может быть, шпионами были скорее те, кто больше всего кричал об измене и чернил имя русской Государыни.
Но армия ещё была предана Государю. Вспоминаю ясно день, когда Государь, как-то раз вернувшись из Ставки, вошёл сияющий в комнату Императрицы, чтобы показать ей Георгиевский крест, который прислали ему армии южного фронта. Её Величество сама приколола ему крест, и он заставил нас всех к нему приложиться. Он буквально не помнил себя от радости.
Отец мой – единственный из всех министров – понял поступок Государя, его желание спасти Россию и армию от грозившей опасности, и написал Государю сочувственное письмо. Государь ему ответил чудным письмом, которое можно назвать историческим. В этом письме Государь изливает свою наболевшую душу, пишет, что далее так продолжаться не может, объясняет, что именно побудило его сделать этот шаг, и заканчивает словами: «управление же делами Государства, конечно, оставляю за собою». Подпись гласила: «Глубоко Вас уважающий и любящий Николай».
В 1918 году, когда я была в третий раз арестована большевиками, при обыске было отобрано с другими бумагами и это дорогое письмо.

Фото 58. Главноуправляющий Собственной Его Императорского Величества Канцелярией Статс-Секретарь Александр Сергеевич Танеев.
X
Кому дорога наша Родина и кто ещё надеется, что после революции и большевизма настанет пора, когда Россия снова будет Великой Державой, тот человек поймёт, как мне тяжело писать следующие главы; а писать я должна правду. Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали. По рассказам одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 1915-1916 годов, и не покупалось такое количество бриллиантов: война как будто не существовала.
Кроме кутежей общество развлекалось новым и весьма интересным занятием – распусканием всевозможных сплетен про Государыню Александру Феодоровну. Типичный случай мне рассказывала моя сестра. Как-то к ней утром влетела её bele Soeur55, г-жа Дерфельден56, со словами:
– Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что Императрица спаивает Государя, и все этому верят.
Рассказываю об этом типичном случае, так как дама эта была весьма близка к великокняжескому кругу, который сверг Их Величества с престола, и неожиданно их самих. Говорили, что она присутствовала на ужине в доме Юсуповых в ночь убийства Распутина.
Клеветники выискивали всевозможные случаи и факты, за которые они могли бы ухватиться для подтверждения своих вымыслов. Так, из Австрии приехала одна из городских фрейлин Императрицы, Мария Александровна Васильчикова, которая была другом Великого Князя Сергея Александровича и его супруги и хорошо знакома с Государыней. Васильчикова просила приёма у Государыни, но, так как она приехала из Австрии, которая в данную минуту воевала с Россией, ей в приёме отказали. Приезжала ли она с политической целью или нет, осталось неизвестным, но фрейлинский шифр с неё сняли и выслали её из Петрограда в её имение. Клеветники же уверяли, что она была вызвана Государыней для переговоров о сепаратном мире с Австрией или Германией.
Дело о Васильчиковой было, между прочим, одним из обвинений, которое и на меня возводила следственная комиссия. Всё, что я слыхала о ней, было почерпнуто мной из письма Великой Княгини Елизаветы Феодоровны к Государыне, которое она мне читала. Великая Княгиня писала, чтобы Государыня ни за что не принимала «that horrid Masha» («эту ужасную Машу»). Вспоминая дружбу Великой Княгини с ней, которой я была свидетельницей в детстве, мне стало грустно за неё.
Клевета на Государыню не только распространялась в обществе, но велась так же систематически в армии, в высшем командном составе, а более всего союзом земств и городов. В этой кампании принимали деятельное участие знаменитые Гучков и Пуришкевич. Так, в вихре увеселений и кутежей и при планомерной организованной клевете на Помазанников Божиих началась зима 1915-1916 года, тёмная прелюдия худших времён.
Весной 1916 года здоровье моё ещё не вполне окрепло, и меня послали с санитарным поездом, переполненным больными и ранеными солдатами и офицерами, в Крым. Со мной поехали: сестра милосердия, санитар Жук и три агента секретной полиции – будто бы для охраны, а в сущности, с целью шпионажа.
Эта «охрана» была одним из тех неизбежных зол, которые окружали Их Величества. Государыня в особенности тяготилась и протестовала против этой «охраны»; она говорила, что Государь и она хуже пленников; но почему-то Их Величества не могли выйти из этого тяжёлого положения, вероятно, другие заботы были слишком велики, чтобы уделять время на этот предмет. Каждый шаг Их Величеств записывался, подслушивались даже разговоры по телефону. Ничто не доставляло Их Величествам большего удовольствия, как «надуть» полицию; когда удавалось избежать слежки, пройти или проехать там, где их не ожидали, они радовались, как школьники.
За свою жизнь они никогда не страшились, и за все годы я ни разу не слышала разговора о каких-либо опасениях с их стороны. Вспоминаю случай, как раз во время прогулки с Государем в Крыму, «Охранник» сорвался с горы и скатился прямо к ногам Государя. Нужно было видеть его лицо. Государь остановился и, топнув ногой, крикнул: «Пошёл вон!» Несчастный кинулся бежать.
Однажды, гуляя с Императрицей в Петергофе, мы встретили моего отца, и Императрица долго с ним беседовала. Только что мы отошли, как на него наскочили два «агента» с допросом, «по какому делу он смел обеспокоить Государыню». Когда отец назвал себя, они моментально отскочили – странно было им его не знать…

Фото 59. Военно-санитарный поезд № 117. Поездка в Евпаторию, май 1916 г.

Фото 60. В вагоне с ранеными. Поездка в Евпаторию, май 1916 г.
Итак, я отправилась на юг. Государыня при проливном дожде приехала проводить поезд. Мы ехали до Евпатории 5 суток, останавливаясь в Москве и других городах на несколько часов. Городской голова Дуван дал мне помещение в его даче, окружённой большим садом, на самом берегу моря; здесь я прожила около двух месяцев, принимая грязевые ванны. За это время я познакомилась с некоторыми интересными людьми, между прочим, с караимским Гахамом, образованным и очень милым человеком, который читал мне и рассказывал старинные легенды караимского и татарского народов. Он, как и все караимы, был глубоко предан Их Величествам. Получила известие, что Её Величество уехала в Ставку, откуда вся Царская Семья должна была проехать на смотры в Одессу и Севастополь. Государыня телеграммой меня вызвала к себе. Отправилась я туда в автомобиле через степь, цветущую красными маками, по проселочным дорогам. В Севастополь57 дежурный солдат из-за военного времени не хотел меня пропустить. К счастью, я захватила телеграмму Государыни, которую и показала ему. Тогда меня пропустили к царскому поезду, где жили Их Величества. Завтракала с Государыней. Государь с детьми вернулись около 6 часов с морского смотра. Ночевала я у друзей и на другой день вернулась в Евпаторию. Их Величества обещались вскоре приехать туда же, и действительно, 16 мая они прибыли на день в Евпаторию.
Я много путешествовала с Их Величествами, но думаю, что встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа инородцев, татар, караимов в национальных костюмах; вся площадь перед собором – один сплошной ковёр розанов. И всё залито южным солнцем. Утро Их Величества посвятили разъездам по церквам, санаториям и лазаретам, днём же приехали ко мне и оставались до вечера; гуляли по берегу моря, сидели на песке и пили чай на балконе. К этому чаю местные караимы и татары прислали всевозможные сласти и фрукты. Любопытная толпа, которая за всё время не расходилась, не дала Государю выкупаться в море, чем он был очень недоволен. Наследник выстроил крепость на берегу, которую местные гимназисты обнесли после забором и оберегали, как святыню. Обедала я в поезде Их Величеств и проехала с ними несколько станций.
В конце июня я вернулась в Царское Село и принялась снова за работу в своём лазарете. Лето было очень жаркое, но Государыня продолжала свою неутомимую деятельность. В лазарете, к сожалению, слишком привыкли к частому посещению Государыни, – некоторые офицеры в её присутствии стали держать себя развязно. Её Величество этого не замечала; когда я несколько раз просила её ездить туда реже и лучше посещать учреждения в столице, Государыня сердилась.
Атмосфера в городе сгущалась, слухи и клевета на Государыню стали принимать чудовищные размеры, но Их Величества, и в особенности Государь, продолжали не придавать им никакого значения и относились к этим слухам с полным презрением, не замечая грозящей опасности. Я сознавала, что всё, что говорилось против меня, против Распутина или министров, говорилось против Их Величеств, но молчала. Родители мои тоже понимали, насколько серьёзно было положение; моя бедная мать получила два дерзких письма: одно от княгини Голицыной, «belle soeur» Родзянко58, второе – от некой г-жи Тимашевой. Первая писала, что она и на улице стыдится показаться с моей матерью, чтобы люди не подумали, что и она принадлежит к «немецкому шпионажу». Родители мои в то время жили в Териоках, и я их изредка навещала.
Единственно, где я забывалась, – это в моём лазарете, который был переполнен. Купили клочок земли и стали сооружать деревянные бараки, выписанные из Финляндии. Я часами проводила у этих новых построек. Многие жертвовали мне деньги на это доброе дело, но, как я уже писала, и здесь злоба и зависть не оставляли меня; люди думали, вероятно, что Их Величества дают мне огромные суммы на лазарет. Лично Государь мне пожертвовал 20 000. Её Величество денег не жертвовала, а подарила церковную утварь в походную церковь.

Фото 61. Анна Александровна среди своих раненых на крыльце Серафимовское убежища-лазарета. Царское Село.

Фото 62. Раздача подарков раненым. Серафимовское убежище-лазарет. Лето 1916 г.

Фото 63. Анна Александровна среди персонала и раненых. Лето 1916 г.
Меня мучили всевозможными просьбами, с раннего утра до поздней ночи не давали покоя с разными горями, нуждами и требованиями. И все говорили в один голос: «Ваше одно слово всё устроит». Господь свидетель, что я никого не гнала вон, но положение моё было очень трудное. Если я за кого просила то или иное должностное лицо, то лишь потому, что именно я прошу – скорее отказывали; а убедить в этом бедноту было так же трудно, как уверить её в том, что у меня нет денег.
К сожалению, я была робка и глупа и, боясь кого-либо обидеть, принимала и выслушивала всех, кто ко мне ни обращался, а не гнала, как бы следовало многих из них, прочь. Государыня всегда всем со мной делилась; естественно, что и я, со своей стороны, передавала ей всё, что видела и слышала. Этим, разумеется, пользовались, как водится, и недостойные люди; ведь не всякого сразу разберешь59.
Была бы я другая, вероятно, врали бы на меня меньше; думаю, мало было людей, которых так эксплоатировали [так в оригинале] и благорасположенные, и враги, как меня…
Помню случай с одной дамой. Придя ко мне, она стала требовать, чтобы я содействовала назначению её мужа губернатором. Когда я начала убеждать её, что не могу ничего сделать, она раскричалась на меня и грозила мне отомстить…
Как часто я видела в глазах придворных и разных высоких лиц злобу и недоброжелательность. Все эти взгляды я всегда замечала и сознавала, что иначе не может быть после пущенной травли и клеветы, чернившей через меня Государыню. Настоящей нужде я старалась по мере сил помочь, но сознаюсь, что не сделала и половины того, что могла; посидев в тюрьмах и часто голодая и нуждаясь, я каюсь ежечасно, что мало думала о страдании и горе других, – особенно же заключенных; им и калекам хотела бы посвятить жизнь, если Господь приведёт когда-либо вернуться на Родину.
В жаркие летние дни Государыня иногда ездила кататься в Павловск. Она заезжала за мной в коляске; за нами в четырёхместном экипаже ехали Великие Княжны. Её Величество и старшие Великие Княжны целыми днями не снимали костюмов сестёр милосердия. Они выходили из экипажей в отдалённой части Павловского парка и гуляли по лужайкам, собирая полевые цветы. Вспоминаю одну такую прогулку. Мы ехали в Павловск по дороге к «белой берёзе». Правил любимый Их Величествами кучер Коньков. Вдруг один из великолепных вороных рысаков захрипел, повалился на бок и тут же околел. Вторая лошадь испугалась и стала биться. Императрица вскочила, бледная, и помогла мне выйти. Мы вернулись в экипаже детей. На меня этот случай произвёл тяжёлое впечатление. Конюшенное начальство приходило потом извиняться.
В лазаретах в Царском Селе устраивали для раненых всевозможные развлечения и концерты, в которых принимали участие лучшие певцы, рассказчики и т. д. В лихорадочной деятельности на пользу больных и раненых Государыня забывала о зловещих слухах, доносившихся до неё. В августе из Крыма приехал Гахам караимский. Он представлялся Государыне и несколько раз побывал у Наследника, который слушал с восторгом легенды и сказки, которые Гахам ему рассказывал. Гахам первый умолял обратить внимание на деятельность сэра Бьюкенена и на заговор, который готовился в стенах посольства с ведома и согласия сэра Бьюкенена. Гахам раньше служил по Министерству Иностранных Дел в Персии и был знаком с политикой англичан. Но Государыня и верить не хотела, она отвечала, что это сказки, так как Бьюкенен был доверенный посол Короля Английского, её двоюродного брата и нашего союзника. В ужасе она оборвала разговор.
Через несколько дней мы уехали в Ставку навестить Государя. Вероятно, все эти именитые иностранцы, проживавшие в Ставке, одинаково работали с сэром Бьюкененом. Их было множество: генерал Вильямс со штабом от Англии, генерал Жанен от Франции, генерал Риккель – бельгиец, а также итальянские, сербские, японские генералы и офицеры. Как-то раз после завтрака все они, и наши генералы, и офицеры штаба толпились в саду, пока Их Величества совершали «серкль»60, разговаривая с приглашёнными. Сзади меня иностранные офицеры, громко разговаривая, обзывали Государыню обидными словами и во всеуслышание делали замечания: «Вот она снова приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита, – говорил другой, – ненавидит, когда она приезжает; её приезд обозначает перемену в правительстве» и т. д. Я отошла, мне стало почти дурно. Но Императрица не верила и приходила в раздражение, когда я ей повторяла слышанное.