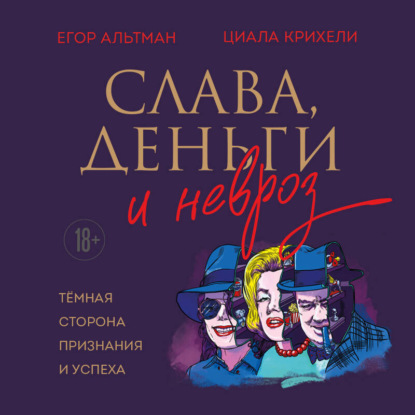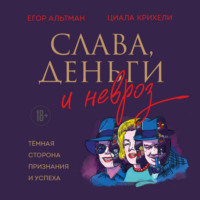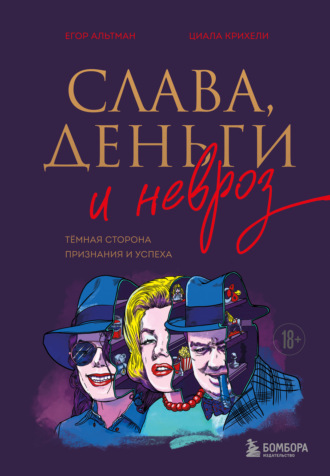
Полная версия
Слава, деньги и невроз. Тёмная сторона признания и успеха
Чаще всего травма не проявляется на сознательном уровне как болезненное воспоминание или страдание и как будто не влияет на повседневность. Однако она ведь всего лишь «забывается», но никуда не девается из психического аппарата. Периодически напоминает о себе неприятными симптомами и жить всё-таки мешает. В повседневной жизни это может выражаться, к примеру, в постоянном неадекватном реагировании на ситуации, провоцирующие ассоциации с переживаниями, испытанными в момент травмы. Конечно, если те не названы, не переработаны и не усвоены.
Гений постимпрессионизма страдал от множества тяжёлых физических заболеваний, которые с возрастом усугубляли его нестабильное психическое состояние. Точный диагноз художника неизвестен, однако есть версии, что он страдал эпилептическим психозом, биполярным аффективным расстройством, его мучали разные психосоматические симптомы, такие как проблемы со слухом (периодическая глухота, звон в ушах), клиническая депрессия.
Разумеется, решение – в терапии. Она помогает встретиться с конфликтом и разрешить его. Но для этого сначала нужно встретиться с защитами и ослабить их. Конфликт разрешится, когда изменятся внутренние условия, которые привели к его возникновению. Если это будет сделано, травмирующую ситуацию удастся поднять на уровень сознания и отреагировать. Появится возможность назвать, понять и усвоить непереработанное переживание, связанное с травмой. Проще говоря, встретиться лицом к лицу и прожить.
Итак, психическое расстройство – это набор симптомов и поведенческих характеристик, возникших в результате полученной когда-то травмы и направленных на то, чтобы с этой травмой справиться. Поскольку это невозможно сделать самостоятельно, любые попытки психики защитить себя от пагубного воздействия пережитого опыта будут, скорее всего, заканчиваться неудачей. Именно поэтому психические расстройства вызывают столько страданий.
Слагаемое второе. РАННЕЕ НАЧАЛОИ ПОСТОЯНСТВОСамо по себе психическое расстройство не способно подарить миру гения, хотя это первое и самое главное условие на пути к славе. Гениальность – это крайняя форма таланта, и психическое расстройство лишь выполняет роль среды, благоприятной для созревания этого таланта.
Чтобы на основе психического расстройства, причём очень серьёзного, зародился гений, необходим ещё один элемент. Человек должен с раннего, по возможности, возраста усиленно и регулярно, никуда не сворачивая, заниматься ремеслом, которому посвятит всю жизнь. Причём упорство, усилия и системность в выбранном направлении должны быть очень мощными. Это важно. Не менее серьёзными, чем уровень психического расстройства.
ЕСЛИ БЫ ДЛЯ БЕЗУМНОГО УСПЕХА БЫЛО ДОСТАТОЧНО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА, ПОВЕРЬТЕ, КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ БЫЛ БЫ ВЕЛИКИМ, БАСНОСЛОВНО БОГАТЫМ И ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ.
Ван Гог был подростком, когда устроился на службу в торгово-художественную компанию дяди в качестве продавца. В то же время он начал много посещать музеи и выставки. Благодаря близкому контакту с искусством с достаточно юного возраста Винсент быстро начал разбираться в живописи.
Есть раннее начало, но! Нет последовательности и постоянства.
Уже сложившаяся психическая картина, в которой явно можно наблюдать тенденции к биполярному аффективному расстройству, выбивала гения из творческого процесса. Ван Гог часто терял интерес к работе, хоть и снова возвращался к ней спустя время. То есть очевидно, что у него были фазы активной работы и фазы потери интереса к ней.
По большей части этот человек уходил в творчество, спасаясь от депрессии и меланхолии, то есть сублимировал в живопись свое тяжёлое психоэмоциональное состояние.
Все герои нашей книги без исключения не только имеют или имели расстройства психического толка, но и многие годы упорно занимались ремеслом, которое привело их к всемирной известности. Большинство из них начало оттачивать мастерство с раннего детства и занималось этим всю жизнь. Не обязательно быть как Моцарт, который написал первую симфонию в пять лет. Илон Маск, например, начал заниматься программированием уже в подростковом возрасте, как и Ван Гог живописью. Такие варианты развития событий тоже можно считать достаточно ранним началом. Здесь хочется сделать упор не на то, когда человек начал работать в выбранном направлении, а на последовательность его действий и решений, на неотвратимость и преданность делу. У Винсента Ван Гога эта часть формулы хромала – он то писал, то не писал, то его мотало где-то. Он никогда не относился к своему таланту серьёзно, не стремился развить его и сделать источником дохода.
Учитывая, что:
• у каждого сотого жителя на Земле имеется психическое расстройство в ярко выраженной форме,
• можно предположить, что хотя бы четверть из них в достаточно раннем возрасте выбирают ремесло, которому посвящают всю жизнь,
получается, что гениев в мире не так уж и мало. Так почему же не все они успешны?
Бывает, что за вундеркинда делает выбор кто-то из взрослых или… он определяется средой, в которой ребёнок растёт и развивается. Что приводит нас к следующему, последнему ингредиенту успеха.
Слагаемое третье. СРЕДАИтак, уже становится очевидно, что для развития гения важно соблюдение минимум двух условий: крайней формы психопатологии и раннего начала. Только ведь нас интересуют не просто гении и не просто люди всемирно известные. Мы исследуем феномен, подразумевающий в том числе и баснословное богатство. К Ван Гогу известность пришла посмертно, а умер он в мучительной нищете. Но ведь времени, которое Винсент уделял развитию своего таланта, оказалось достаточно для создания более 2000 полотен! Сегодня их стоимость исчисляется сотнями миллионов долларов! Так чего же ему не хватило для того, чтобы эти миллионы настигли его при жизни?
Очевидно, для полного пакета «знаменитый и успешный» ему недостаёт ещё одного слагаемого.
Работы Ван Гога не воспринимались публикой. Никто не хотел покупать его картины, и это очень ранило художника. По легенде, за всю жизнь он не продал ни одного полотна. Но, скорее всего, это действительно романтизированная легенда. В последнее время всё же находятся свидетельства того, что какие-то работы Ван Гога продались при его жизни, а за два года до смерти он-таки начал получать незначительное признание среди авангардистов. Но этого никак не достаточно, чтобы сказать, что художник получил значительное признание при жизни, не говоря уже о финансовом процветании.
Поскольку с раннего детства никто не ставил себе цели увидеть и развить в ребёнке талант, который мог бы в дальнейшем стать инструментом монетизации, интерес к живописи появился и развивался стихийно. Как мы уже предположили, он был средством самоконтейнирования в моменты наиболее острых периодов психоэмоциональных кризисов.
Получается, что в случае Ван Гога формула содержала лишь одну полноценную составляющую: травма. Есть подтверждение раннего старта в развитии мастерства, но не было постоянства. То есть второе слагаемое не получило усиливающего коэффициента. А поддержки художник не имел вовсе. Его способности не культивировались ни семьёй, ни знакомыми. Питательной среды не возникло. Третье слагаемое отсутствовало как данность.
Постоянное присутствие рядом человека или нескольких людей, которые на протяжении всей жизни неустанно культивируют талант и даже в какой-то мере стремятся его монетизировать, – третье и неотъемлемое условие. Без него невозможно формирование известной на весь мир, неприлично богатой, исключительно неординарной личности.
Да, человеку нужен человек. Даже если намерения последнего не всегда соответствуют общепринятым представлениям о морали и чести. Как станет известно из историй наших героев, многим приходилось в качестве поддерживающей силы иметь в окружении как раз таких морально нечистоплотных людей.
К сожалению, исследование показало, что среда может быть не только питательной, но и «доительной». Как, например, у Мэрилин Монро, которая, по сути, жила в психиатрических клиниках и выходила в мир только на съёмки, когда должна была принести продюсерам прибыль. Мы ещё вернёмся к ней, этот случай сложнее. Но суть не меняется. Если отсутствует одно из слагаемых, вероятность, что успех не случится, очень и очень высока.
Не верите?
Что ж, перед вами 11 доказательств.
* * *Может показаться, что некоторые утверждения в попытке проанализировать личность наших героев несут осуждающий, категоричный или оценочный характер. Мы ни в коем случае не преследовали такой цели. Глубоко уважаем талант каждого из этих гениев, восхищаемся их достижениями и с трепетом относимся к их нелёгким историям жизни.
Доказательство I
Пабло Пикассо
Связи сексуального характера с несовершеннолетними, неоднократное доведение до самоубийства, нанесение тяжких телесных повреждений, физическое и психологическое насилие, ограничение свободы. Так мог бы звучать список преступлений перед вынесением приговора серийному маньяку-убийце. Но это всего лишь сухая выжимка из отношений главного художника ХХ века Пабло Пикассо с ближайшими к нему людьми.
Свою первую возлюбленную, Фернанду Оливье, художник запирал дома, избивал, из ревности запрещал ей позировать другим художникам. Ольге Хохловой – следующей значимой своей женщине, – не давал развода, чтобы не делить имущество, но в открытую изменял и унижал её. А когда она заболела раком – проявил полное равнодушие. Мари-Терез Вальтер было всего 17, когда уже немолодой 46-летний Пикассо совратил её. После его смерти она повесилась в своём гараже, так никогда и не познав другого мужчину. Талантливый фотограф Дора Маар с изначально неустойчивой психикой и хрупкой нервной системой рядом с известным художником превратилась в посредственного живописца и пациентку психиатрической клиники, где её лечили электрошоком от затяжных депрессивных эпизодов. Бедняжка ушла из искусства, выбрав затворничество, и провела остаток жизни в полной нищете. Жаклин Рок стала второй мадам Пикассо после смерти Хохловой и была почти на 50 лет его моложе. И хотя с ней у Пикассо сложились отношения, ровно противоположные всем предыдущим, – жертвой стал он сам, – Рок всё равно ждал трагический финал. Она застрелилась.
Судьба всех этих женщин сложилась печально уже потому, что они повстречали на своём пути Пабло Пикассо. Франсуаза Жило – единственная из его спутниц, сумевшая отделаться малой кровью. Ей удалось выйти из отношений с художником, сохранив жизнь и рассудок, повторно выйти замуж и добиться какого-то успеха в карьере.
Отношения Пикассо с близкими людьми были пропитаны эмоциональным, психологическим и физическим насилием. Однажды он заявился в дом к Ольге Хохловой в сопровождении молоденькой Мари-Терез Вальтер с младенцем на руках и, словно пощёчиной, оглушил законную жену фразой: «Этот ребёнок – произведение Пикассо».
Всех женщин, с которыми его связывали романтические отношения, Пикассо унижал, оскорблял и ни во что не ставил. Равно как и потомство от них. Ему принадлежит леденящая кровь цитата: «Для меня существует лишь два типа женщин – богини и тряпки для вытирания ног. Величайшим наслаждением в жизни является превратить первую во вторую».
Весьма типичная модель взаимоотношений для человека с нарциссическим расстройством личности. Поначалу все объекты влюблённости кажутся ему «небожителями». Однако очень быстро низвергаются с пьедестала обожания наказующим кнутом безразличия и медленного психологического истязания. Это происходило и в случае Пикассо: он терял всякий интерес к женщине, стоило ей забеременеть или заболеть. Окружающим он объяснял своё поведение так: «Всякий раз, меняя жену, нужно сжигать предыдущую. Вот так бы я от них избавлялся… Может, это вернуло бы мне молодость. Убивая женщину, уничтожаешь прошлое, которое она собой знаменует».
Безрассудный садизм Пикассо распространялся не только на спутниц жизни. Законного сына Пауло, рождённого в браке с Ольгой Хохловой, художник ни во что не ставил. Считал его абсолютно никчёмным и демонстративно держал в качестве личного шофёра. Пикассо не упускал случая напомнить сыну о его несостоятельности – как мужчины, отца и человека. С незаконными детьми от Франсуазы Жило он прекратил всякое общение после публикации её книги. Внука Пикассо – сына Пауло – тоже ждала трагическая судьба. «…Паблито, игрушка его садизма и безразличия, покончил жизнь самоубийством в 24 года, выпив хлорку», – писала внучка художника Марина в своей книге «Дедушка». Именно она нашла брата, как описывала, «с сожжённой гортанью и пищеводом, разорванным желудком и остановившимся сердцем». Внукам великий художник, который был баснословно богат, почти не уделял внимания и не давал ни копейки, даже когда те нуждались в медицинской помощи. «Молоко, которым нас вскормили, было отравлено, это яд сверхчеловека, который мог позволить себе всё и давил на нас», – вспоминала Марина.
Можно с уверенностью сказать, что, живи великий творец XX века в наши дни, беспощадные жернова культуры отмены перемололи бы его и всё созданное им подобно тому, как это произошло с Харви Вайнштейном[1]. Вероятно, высшим силам очень нравилось творчество Пикассо, раз злодеяния не просто сошли ему с рук, но и не помешали прожить долгую и насыщенную жизнь.
Факт остаётся фактом: несмотря на все ужасы, ставшие плодом его личности при жизни, невозможно отрицать гений Пикассо. Что же всё-таки позволило ему войти в историю как самому богатому художнику XX века и как неоспоримому гению современности, чьи картины похищают чаще других? Безумно успешными и богатыми не становятся просто так. Как, впрочем, и садистами. Для этого необходимы условия, которые нашему герою были обеспечены с первых секунд жизни. Здесь могла бы быть надпись: «Не пытайтесь повторить в домашних условиях, все трюки выполнены профессионалами». Впрочем, эти «трюки» вряд ли зависят от нашей воли. В игру часто вступает её величество Случайность.
У матери Пикассо были тяжёлые роды. Настолько тяжёлые, что сначала младенца посчитали мёртвым. Акушерка уже сообщила роженице трагическую весть, когда дядя – брат матери, который беспрестанно курил сигары, – вошёл в комнату. Недолго думая, мужчина выпустил струю дыма аккурат в лицо решившему умереть младенцу. Неожиданно тот подал признаки жизни – тихонько заплакал.
Тяжёлые роды не могли не сказаться на малыше – он оказался совсем хилым. Но, несмотря на это, вместе с ним родилась целая эпоха.
Мало того, что у новорожденного, судя по всему, были бессознательные причины не хотеть появляться на свет, стоит ли говорить с каким ужасом он столкнулся, когда его всё-таки вернули к жизни. Этот ужас принял вид густого облака сигарного дыма и буквально окутал его слабые лёгкие. В первые минуты Пикассо столкнулся с серьёзной травмой – угрозой выживания и безопасности, которая отразилась на всей его дальнейшей жизни. Эта травма сформировала определённые защитные механизмы. Например, отвращение к болезням и всевозможные фобии: он боялся отдавать свою одежду малоимущим, опасаясь, что «перетянет» на себя их судьбу или «отдаст» свою.
Родители, да и дядюшка, раз уж на то пошло, оказали фундаментальное влияние на формирование будущей личности художника.
Начнём с того, что травматичный опыт, полученный сразу после рождения, только кажется незначительным. Однако для младенца, который ещё не понимает, куда он попал и что происходит, крайне важна физическая близость с матерью с первых же мгновений жизни. Она гарантирует полную и безоговорочную безопасность, защищает от базовой тревоги. Если контакта с матерью не было, – а у Пикассо его очевидно не было, – это может нанести огромный вред ещё не окрепшей психике младенца. Сильная тревога будет проявляться каждый раз, когда в его фантазии возникнет угроза быть оставленным.
У Пикассо можно наблюдать фиксацию[2] на совсем ранней стадии развития, связанную с травмой угрозы жизни. Такая травма может привести к застреванию на младенческом уровне, который характеризуется проблемой самостоятельного существования и выживания в этом мире, так как младенец не идентифицирует себя отдельно от мамы.
Когда будущий гений уже научился понимать слова и реакции, от матушки он часто слышал о своих предстоящих небывалых успехах. Радуясь, что чадо, доставшееся таким трудом, растёт здоровым и невредимым, да к тому же подаёт большие надежды, маменька любила повторять: «Если ты будешь солдатом, то непременно дослужишься до генерала, а если монахом – то станешь Папой». Однако ни тем, ни другим Пикассо становиться не торопился.
Завышенные ожидания сами по себе могут нанести ребёнку травму. А если вкупе с любовью идёт чрезмерная опека, восхваление, иногда даже обожествление – это приводит к абсолютной несамостоятельности ребёнка. Вырастая и выходя за пределы своей семейной системы, он осознаёт, что, помимо него, в мире есть множество других людей, и некоторые из них – такие же «божки». Происходит конфликт интересов. Не выдержав его, человек скатывается в инфантилизм: «Мне никто не нужен, я лучше всех, никто меня в этом не переубедит». Но без здоровой критики психика не развивается. Умеренная (это важно) критика необходима для развития: когда, вырастая, человек допускает, что может где-то ошибаться, в чём-то уступать, быть более слабым и медленным и менее успешным.
Есть и обратная сторона медали, когда ребёнок получает послание: «Сколько бы ты ни старался, что бы ты ни делал, этого всё равно будет недостаточно» или «Ты нравишься мне, только если ты лучший». В обоих случаях к ребёнку предъявляют завышенные требования. Это усиливает тревогу быть оставленным и стимулирует потребность постоянно самосовершенствоваться, чтобы оправдать ожидания значимого человека. И это – первый ингредиент в рецепте: сильная бессознательная мотивация что-то доказать родителям, или, попросту говоря, травма, которая искажает внешний мир. Информация о жизни преломляется через полученную травму (например, установку «ты у меня лучше всех…») и становится основой, на которую нанизывается весь будущий опыт.
Говорить ребёнку «ты лучше всех» – не плохо. Важно количество и качество таких посылов. Часто мама или папа, у которых есть ощущение собственной недостаточности, желание что-то доказать миру, начинают делать это через ребёнка, постоянно повторяя: «Он у меня лучше всех». Родитель вроде хвалит малыша, но на самом деле восхваляет себя: он такой, потому что я его таким сделал. Чадо становится нарциссическим расширением[3] своего родителя. Не кем-то автономным, а просто продуктом – удавшимся или нет.
Следующий ингредиент величайшего успеха – раннее начало в сочетании с постоянством и последовательностью. В девятилетнем возрасте, будучи учеником своего отца, Пабло написал свою первую серьёзную картину маслом – «Пикадор» (с ней он не расставался на протяжении всей жизни). Картина была так хороша, что её появление заставило отца бросить живопись. Ученик превзошёл учителя. Это превосходство позволило маленькому Пикассо реализовать эдипову фантазию[4] – одержать победу над отцом. Дальнейшее развитие событий было предрешено: скоро мир увидит эгоистичного, эгоцентричного, жестокого, импульсивного, падкого на лесть, но не верящего в неё, крайне чувствительного к оценкам и критике, абсолютно равнодушного к чужим страданиям, склонного к ипохондрии, зацикленного патологического нарцисса.
Особенностями личности Пикассо объясняются и его небывалая работоспособность, и стремление во что бы то ни стало оправдать свою грандиозность. Последнее у него явно получилось на все сто. Во многом именно благодаря, как бы парадоксально ни звучало, травматическому опыту.
Как же травма влияет на талант и работоспособность? В случае Пабло ему приходилось из кожи вон лезть, чтобы подтвердить эту грандиозность. Чтобы мама, уверенная в его идеальности, не узнала, что у него есть недостатки, и не отказалась от него. Во взрослой жизни, сталкиваясь с женщинами, которые, в отличие от мамы, не считали Пикассо идеальным, он был жесток и высокомерен. До тех пор пока они не признавали его божественность. Аналогичное требование – ожидание выдвигалось ко всем окружающим художника людям. И это можно считать той самой питательной средой, которую парадоксально сам Пикассо и культивировал, патологически требуя признания и обожествления. Только внутренний страх недостаточности подстегивал его работать больше и создавать лучше, чтобы питаться от всеобщего обожания.
На основе психодиагностики и психоаналитических исследований мы предполагаем, что Пикассо не умел по-настоящему любить. Также и его сложно было искренне полюбить в ответ. Им руководил необузданный страх перед собственной уязвимостью. Люди были нужны ему, чтобы заткнуть пустующее место в душе, каждую минуту грозящее его поглотить. Временно заделав эту дыру созависимыми отношениями с многочисленными женщинами, он всё же продолжал жить в постоянной тревоге: его отвергнут, покинут, бросят. Поэтому спешил бросить первым и быть тем, кого невозможно отвергнуть.
Он просчитался только с одной женщиной. Франсуаза Жило сумела уйти от него с двумя детьми на руках. Она построила жизнь, свободную от чумы по имени Пикассо. Возможно, эту «оплошность» можно списать на немолодой возраст художника к моменту их с Жило встречи. У каждого агрессора глубоко в подсознании заложена программа «жертвы», которая активизируется именно в преклонном возрасте.
ЖИВИ ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ XX ВЕКА В НАШИ ДНИ, БЕСПОЩАДНЫЕ ЖЕРНОВА КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ ПЕРЕМОЛОЛИ БЫ ЕГО И ВСЁ СОЗДАННОЕ ИМ
Вероятно, с приходом старости страх быть брошенным стал для гениального художника абсолютно невыносимым. Убедив себя в том, что люди так и норовят уязвить, отвергнуть и бросить, он переключился в режим «обратного старения». Подобно Бенджамину Баттону[5], Пикассо постепенно возвращался в зависимое, но при этом безопасное младенческое состояние блаженного единения с последней своей женщиной – Жаклин Рок. Он забрал её в отдалённый замок, отгородил от мира, оставив только для себя, и так реализовал фантазию абсолютного слияния с матерью.
Можно ли простить человеку аморальные поступки по отношению к ни в чём не повинным людям лишь за то, что тот провёл жизнь в невыносимых душевных муках? Можно ли простить гению его злодеяния, потому что он сформировал всё современное искусство?
Однозначно нет. Но можно попытаться понять внутреннюю агонию, сопровождавшую художника на протяжении всей жизни. Ту, что одновременно выступила и вечным двигателем для беспрецедентных свершений, и адским пламенем, в котором сгорали все, кто слишком близко к нему подлетал.
Пикассо первым отказался от фотографически детализированной живописи и обратился к психологизации искусства. «Я пишу не то, что вижу, а то, что знаю», – любил повторять он. Художник одним из первых перешёл от отражения внешней действительности к фиксации внутреннего мира – через символы, а не объекты. До Пикассо живопись считалась обыкновенным ремеслом, источником не самого большого заработка или способом разрядки душевных метаний. С появлением стиля Пикассо искусство стало доступным, популярным, массовым.
Для этого были и экономические предпосылки: в XX веке появилось много людей со средним капиталом, которые стали покупать произведения искусства, чтобы украшать дома, – возник массовый запрос. Пикассо уловил эти тенденции и лучше других художников встроился в новые реалии. В этом, по нашему мнению, и заключается его гениальность.
Возможно, прозвучит дерзко, но всё, что мы, Поколение Y[6], имеем сегодня: социальные сети, культуру мемов[7], NFT[8], TikTok[9] – естественным образом эволюционировало из феномена, начало которому было положено Пабло Пикассо. Он создал не просто искусство, а целый язык обмена визуальными данными, запустил волну изменений, которые много позже трансформировались в новые форматы доставки контента – соцсети и так далее. Все эти новые формы сегодня и есть популярное современное искусство.
Ф. Гваттари[10] сказал: «Кино – это кушетка для бедных». В равной степени это применимо и к изобразительному искусству, которому посвятил свою жизнь Пикассо.
Считается, что эффективный психоанализ может проходить только на родном языке, поскольку символизация – это очень индивидуальный процесс[11]. Однако мы можем многое узнать о себе, посмотрев корейское или индийское кино, – для этого не нужен язык вербальный. Задействуется язык символов – родной язык бессознательного. Взаимодействуя с работой, созданной по законам символизма в противовес законам реализма, мы считываем глубинную информацию, зачастую не заложенную туда автором, по крайней мере, сознательно. Эта информация перекликается с нашими собственными переживаниями, что логично, так как любое искусство – сублимация бессознательного.
Почему говорят, что здоровые и счастливые люди не создают великих произведений? Как правило, искусство рождается из боли. Боль творца резонирует с болью потребителя, у которого тоже личных драм предостаточно. Бессознательное зрителя и создателя начинают «общаться». При этом тот, кто получает информацию, может вложить в неё смысл, отличный от того, что имел в виду автор, проецируя что-то своё. Искусство этим и ценно – оно является идеальным контейнером для переживаний потребителя.