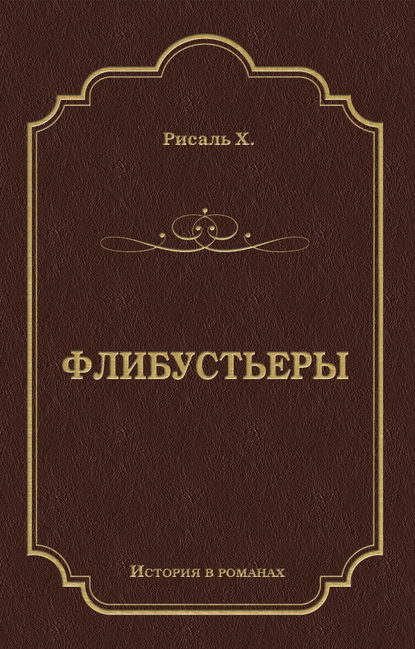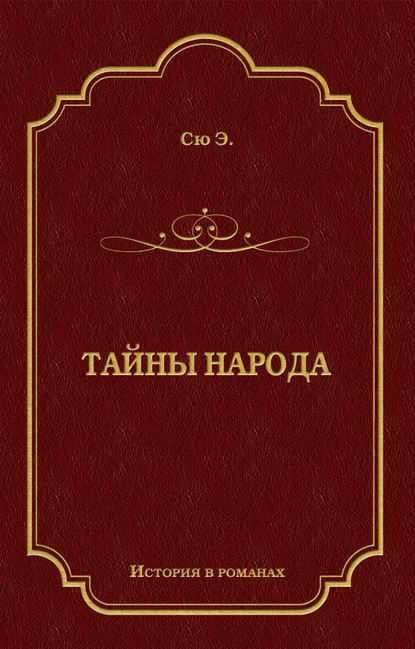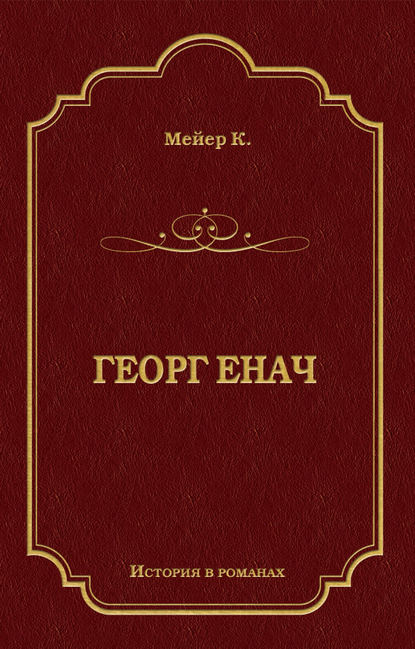Полная версия
Мастер сахарного дела
Донья Ана подумала о его родителях – и почувствовала глубокое сострадание: не было большего мучения, чем переживания за здоровье родных детей. Грязная, изношенная одежда указывала на его скромное происхождение, и, по всей видимости, он не переодевался с тех пор, как взошел на корабль.
– Хочу к маме, – еле слышно пробормотал он и всхлипнул.
Он выглядел таким одиноким и беспомощным, что донья Ана взяла его за руку. Она ожидала, что он ее отдернет, но нет – напротив, она почувствовала, как его маленькие пальчики сжали ее ладонь в ответ.
– Вы не отпустите меня, когда я усну? – спросил он.
Чтобы собрать в груди достаточно воздуха, донья Ана продолжительно вздохнула.
– Ни за что на свете.
Пабло поверил ее словам, и этого оказалось достаточно, чтобы, закрыв глаза, он представил себе свою маму. Он поддался туману, окутывавшему его разум и уносившему его все дальше и дальше. В его детском помутненном сознании возникший образ матери был так отчетлив и внушителен, что он наконец ощутил покой. Измученный борьбой, он отпустил все напряжение – и испытал необыкновенную безмятежность.
Немногим позже донья Ана заметила, как сжимавшие ее руку детские пальчики ослабли. Открыв глаза, она взглянула на него – и поняла: в сопровождении ангелов, рядом с которыми ему больше не грозят ни голод, ни холод, ни страхи, Пабло уже предстал перед Господом. С верой у доньи Аны отношения были неоднозначные, но теперь она нуждалась в ней как никогда. Она нуждалась в ней из-за маленького Пабло. Потому она крепко сжала его руку – и не выпустила ее до тех пор, пока сама, закрыв глаза, не отправилась вслед за ним.
Очнувшись, Баси увидела, как они, притихшие, крепко держались за руки, и не сумела сдержать пронизанный горем вопль, на который тут же подбежал доктор Хустино. Она никогда не видела его столь искаженного лица. Он прослушал донье Ане сердце и сделал все возможное, чтобы восстановить пульс.
– Ана, нет, любимая моя, пожалуйста…
Стоявшая рядом Мар заплакала и в попытках сдержать крик сжала кулаки.
Несмотря на все старания доктора Хустино, сердце доньи Аны затихло.
Невзирая на собственные научные знания и уговоры отца Мигеля, весь следующий час доктор Хустино пытался вернуть ей сердцебиение. И лишь присутствие бортового врача, которого оповестили о случившемся, заставило его сдаться.
Пока тот выносил заключение о смерти, Мар обняла отца. Баси безутешно плакала, не в состоянии осознать произошедшего.
И лишь голос отца Мигеля снова привел их в чувство:
– Доктор, мальчик…
Бортовой врач бросился к нему и прослушал сердце. Затем, весь расстроенный, взглянул на них, покачав головой. Отец Мигель склонился над мальчиком, и бортовой врач подошел к доктору Хустино.
– Глубоко вам соболезную, доктор, – сказал он, склонив голову и коснувшись его плеча. – Но в нашей помощи еще нуждается много других матерей, отцов и детей. Скорби придется отложить на потом.
Доктор Хустино вытянул руку вперед, не дав ему произнести больше ни слова. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы он исчез – и погрузиться в свою боль, но, смахнув слезы, провожаемый печальным взглядом Мар, поднялся.
– Пойдем, Мар, – обратился он к ней, подав ей руку.
«Чтобы страдать меньше, нужно пострадать», – когда-то давно сказала ей донья Ана.
И лишь в день, когда ее не стало, Мар поняла весь смысл этих слов.
Тогда же в знак скорби они вместе с отцом повязали на руку черную ленту и сопроводили духовника до борта корабля. За ними молча плелась обессиленная и убитая горем Баси. Под нависшим над их головами свинцовым небом, под завывавшим в ветровых черпаках ледяным ветром, под треск пенившейся под килем воды повторилась вчерашняя сцена. Сломленный горем утраты, стоявший рядом доктор Хустино выглядел на десяток лет старше. Родители же Пабло, окруженные тремя маленькими детьми, стойко продержались всю молитву духовника, пока их сына, окутанного одним с доньей Аной саваном, не сбросили в его вечный дом, находившийся теперь в глубинах океана.
Глава 12
Первый класс, казалось, болезни даже не заметил. Пока пассажиры других палуб сражались за жизнь, он следовал размеренному ритму фортепианных концертов и вечерних чаепитий. Смерть доньи Аны не вызвала во Фрисии ни малейших переживаний, и единственное, что ее волновало, – это состояние доктора Хустино: не скажется ли такая утрата на его способности исполнять в асьенде свои обязанности. Стоя на корме, она беспокоилась о белизне своих перчаток больше, чем о происходившем на нижних палубах. К ним она не испытывала ни тени сочувствия.
Да и зачем? Сострадание открывает дорогу к слабости, и если уж Фрисия чего и боялась, так это собственной уязвимости. Растрачивая себя на милосердие и сожаления, суровости своих ранних лет жизни она бы не перенесла. Сомнения, считала Фрисия, были не чем иным, как балластом, от которого следовало избавиться, пока он не утянул на дно.
С первым в своей жизни душевным разладом она столкнулась в возрасте восьми лет, когда жила в приюте. Фрисия тогда души не чаяла в своей сестре Аде: она старалась перенять ее походку и поджимала, как та, губы, когда о чем-то задумывалась. Рядом с ней сиротство казалось не таким уж и страшным. Держа ее за руку, Фрисия как бы во весь голос заявляла, что она в этом мире не одна.
Ее стремление показать всем свою удачу вызывало зависть и обиды, и несколько раз Фрисию закрывали в темном подвале для угля, куда не проникал солнечный свет и где полчищами разгуливали крысы размером с кролика.
Ада не сделала ни единой попытки уберечь Фрисию от этого кишевшего чудовищами угольного заточения, и переживание покинутости было для Фрисии куда более страшным, чем пробегавшие чуть не по ней крысы. Тогда она поняла, что наличие семьи еще не давало ни любви, ни защиты.
Через несколько лет они покинули приют и устроились служанками к одному сеньору, который днями изготовлял чучела животных, а ночами избивал жену. За толстыми стенами того дома Фрисия усвоила второй жизненный урок: в распределении сил они занимали то же место, что и собаки. Дни их наполнились криками, пинками и порками ореховым прутом. Фрисия тогда думала, что несчастнее жизни не бывает, но она ошибалась. Она хоть и была двумя годами моложе Ады, выглядела взрослее. Возможно, потому-то изготовлявший чучела сеньор выбрал для своих утех ее ложе.
Окажись на ее месте Ада, Фрисия коршуном бросилась бы на него, исцарапала бы ему лицо и выколола глаза, лишь бы он больше никогда не прикасался к ее сестре. Но Ада вновь не сделала для нее ничего.
«Фрисия, пожалуйста, оставь все как есть. Ради меня. Если он ляжет ко мне в постель, я не перенесу. Я умру, Фрисия, понимаешь? Умру! И тогда ты останешься совсем одна».
Нелепый ответ Ады так возмутил Фрисию, что однажды утром она прокралась в спальню сеньоры и украла у нее хорошо заточенный книжный нож с рукоятью из слоновой кости. Оставалось только дождаться очередного визита сеньора. Той ночью Фрисия, вся дрожа от ужаса и отвращения, вонзила ему в спину острие лезвия.
Из-за страха скандала на них не донесли, но в приют они все же вернулись и прожили там до восемнадцатилетия Ады. Тогда монахини нашли ей работу и позаботились о том, чтобы Фрисия ушла вместе с ней: по приюту ходили слухи о каком-то книжном ножике, которым Фрисия угрожала всякий раз, когда воспитанницы не хотели выполнять ее приказов, хотя убедиться в этом воочию монахини так и не смогли.
Так они устроились горничными в бесподобную виллу семьи Вийяр в Коломбресе.
Когда Фрисия познакомилась с младшим сыном четы, Педро, в ее сердце забрезжил тусклый свет. Она никогда прежде не встречала такого юношу, как он: когда весь дом спал, он приносил им в кровать печенье с молоком и, сидя в углу комнаты, читал им письма от старшего брата, Агустина. Живший в кубинской асьенде Агустин рассказывал о мире, где существовали хозяева и рабы, где людей увозили с родной земли, сковывали кандалами, сажали на корабли и отправляли на плантации, где жизнь от смерти отделяло одно лишь слово хозяина.
Тогда Фрисия узнала о жизнях еще более жалких, чем ее собственная, и в течение нескольких дней с ужасом размышляла, что подобное могло произойти и с ней.
Однажды она осмелилась поделиться своими страхами с Педро.
– Не волнуйся, Фрисия, с тобой такого никогда не случится.
Он произнес эти слова, взяв ее за руку и взглянув ей в глаза с такой нежностью, что Фрисия впервые ощутила прелесть жизни.
В ней загорелось пламя доброты и стремление стать хорошим человеком – таким, как Педро. Она хотела быть похожей на него, так что даже попыталась возлюбить свою сестру. И у нее почти получилось. Она любила Педро – и была уверена, что ее чувства взаимны.
Потому она совершенно растерялась, когда однажды ночью к ней под одеяло забралась Ада и, взяв ее ладони в свои, со слезами счастья на глазах призналась ей, что Педро предложил ей руку и сердце.
От этого признания Фрисия потеряла дар речи, не сумев ничего ответить. Когда удар поослаб, она сказала сестре, что тут, должно быть, какая-то ошибка, что она не так поняла. На свои чувства ей открыл глаза сам Педро. Его переполняло душевное волнение, когда он говорил ей: «Разве ты не рада, Фрисия? Теперь мы настоящие брат с сестрой».
Потрясение был настолько велико, что не проходило еще несколько недель.
С тех пор Фрисия часами стала рассуждать о справедливости Господа. Она каждую ночь молилась Всевышнему, прося Его, что если Он был справедлив, что если Он действительно любил обиженных, то замуж за Педро вместо Ады должна была выйти она.
«Господи, я так страдала… Разве я не заслуживаю хоть немного Твоего милосердия? Ведь с моей сестрой в жизни никогда не происходило ничего плохого, кроме того, что нас обеих бросили родители. Почему же Ты даешь ей все, а мне – ничего? Почему Ты отягощаешь мою душу столькими наказаниями, а ее – ни одним?»
Фрисия хотела кричать на весь мир о том, что они ошибались, что Ада – трусливая, самовлюбленная, скверная сестра, что за ее милым лицом и мягким характером скрывалось черное, словно крылья ворона, мутное, словно речной омут, мрачное, словно небо перед грозой, сердце.
«Несправедливость губит больше душ, чем несчастье».
Эти слова она слышала от одного священника.
И душа ее окончательно покрылась мраком.
Глава 13
Едва сумели совладать с эпидемией дифтерии, как доктор Хустино закрылся у себя в каюте. Не желая никого видеть, он целыми днями спал. Рядом с его кроватью Мар обнаружила бутылочку диацетилморфина – сильнодействующего героического сиропа от кашля, отпускавшегося под названием «героин». Доктор Хустино уже давно никому его не прописывал. Принимавшие сироп дети настолько пристрастились к его действию, что могли целый час пробыть под дождем, лишь бы заболеть и снова выпросить его у матерей. На пациентов он оказывал удивительное влияние: при больших дозах они могли впасть в настолько глубокую дремоту, что порой забывали дышать. Опасная потеря связи с действительностью.
– Чего вы хотите этим добиться, отец?
Сидя на краю кровати, доктор Хустино немигающе смотрел на свои босые ноги.
– Уйди лучше к себе.
– Не уйду! – воскликнула Мар. – Пообещайте сначала, что больше не будете принимать этот сироп.
– Ничего я тебе обещать не стану. Я намного старше тебя, и ты мне не указ.
– Но, отец, вы же знаете, что этот сироп опасен. Такая глубокая дремота может стоить жизни. Я читала об этом в ваших медицинских журналах. Вы же собственными глазами видели, что он делает с детьми. Он вызывает зависимость! Вы же сами перестали его прописывать до новых исследований.
– С горем каждый справляется по-своему. Я врач, и в этом мое преимущество. Мне нужно отдохнуть и забыть о… – Голос его дрогнул. – О том, что твоей матери больше нет.
– Вы думаете, что мне не больно? Думаете, что мне безразлична ее смерть? Нам даже могилы ее не осталось!
– Замолчи…
– А мне не безразлично! Иногда мне кажется, что я не смогу пережить ее потери!
– Перестань, умоляю… – Доктор Хустино схватился руками за голову, словно та вот-вот лопнет.
– Не перестану! Я не хочу потерять еще и вас!
– Хватит! – вскричал доктор Хустино. – Да погляди ты на себя. Трясешься, словно дитя несмышленое. Ты с рождения от нас с матерью не отходила. Во что ты превратила свою жизнь, Мар? Что будет с тобой, когда не станет и меня? Когда же ты осознаешь наконец, что ты родилась не мужчиной? Зачем ты в юности не нашла себе супруга и не создала семью, а научилась делать уколы?
Мар глядела на него с ужасом: отец никогда с ней так не обращался. Он всегда давал ей свободу искать свое место в мире, и эти слова она теперь никак не могла взять в толк.
– Но, отец…
– Сколько раз я повторял твоей матери, что мы – пособники твоего одиночества, потому что таково твое будущее: вести одинокую жизнь или выпрашивать у твоих братьев крышу над головой. И зачем я только разрешил тебе так погружаться в мою профессию…
– Думала, что вы меня понимаете, что видите, как я люблю вашу работу. Помогать людям, облегчать их страдания… Я всю жизнь хотела этим заниматься. Но у меня, в отличие от моих братьев, такой возможности нет, ведь я – женщина. Как же это несправедливо.
– Такова жизнь…
Смахнув слезу, Мар потянула носом.
– Не отвергайте меня, отец. Позвольте мне и дальше вам помогать. И когда в старости я останусь одна, никогда не посмею вас ни в чем обвинять.
Поднеся руку к глазам, доктор Хустино горько заплакал. Мар подбежала к нему и, обвив руками, прижалась к его груди.
– Отец, пожалуйста… Мне невыносимы ваши слезы.
– Прости, дочка. Во мне что-то сломалось. Я не могу перестать думать о том, что мог ее спасти. Что я сделал не так, где сплоховал? Я не должен был отходить от нее ни на шаг…
– У вас не было выбора, и вряд ли вы могли что-то исправить.
– Теперь я этого уже никогда не узнаю…
* * *Чем ближе корабль подходил к Кубе, тем жарче становился воздух. Вскоре им открылся волнистый пейзаж прибрежной полосы с устланными зеленью холмами. Судно приближалось неспешно, с некоторой долей меланхолии, словно возвращавшийся домой после изнурительного боя воин. Раненный смертельно.
Совершенно оправившаяся после болезни Паулина проводила на корме долгие часы, опираясь на перила. Ее настроение, точно маятник, качалось от наворачивавшихся из-за печальных событий слез до надежды на будущее, а теплая погода и небесная синева, отличные от привычных ей дождей, туманов и сырости Коломбреса, лишь обостряли ее двоякие чувства. Она думала о Сантьяго и Викторе. Теперь эта земля – ее новый дом, и – дай-то Бог – там родятся и вырастут ее дети. Она тяжело вздохнула, дав волю грезам унести ее далеко-далеко, а изнуренный корабль, полегчавший за время дифтерии на четырнадцать душ, уже входил в Гаванскую бухту.
Суша и вода. Лицом к лицу.
– Послушайте же меня, дщери мои, – обратился к ним у берега отец Мигель. – Через несколько лет, глядя назад, вы будете вспоминать этот день.
Якорь в заливе бросили уже на закате. К кораблю приблизились несколько суденышек. То были Санитарная комиссия и Таможенная служба, прибывшие на досмотр. Всю последнюю проведенную на борту ночь Мар печально глядела, как Баси помогала доктору Хустино собирать вещи доньи Аны. А Паулина с Росалией тем временем под усыпанным звездами синим небом любовались огнями города, думая каждая о своем и лишь изредка о чем-то беседуя. В ночном воздухе пахло солью, кофе и незнакомыми фруктами, и было приятно тепло.
Наутро на многочисленных лодках их переправили на берег. Там их уже дожидалась Фрисия, которая, первой сойдя с корабля, с напускным состраданием поспешила выразить доктору Хустино соболезнования. Но Мар ее перебила:
– Довольно, Фрисия, не стоит.
Чему та была несказанно рада, поскольку неуместное многословие лишь усилило бы всю неловкость положения.
Кипевшая на набережной жизнь захлестнула их с головой. Запряженные мулами двухколесные повозки, привозившие и увозившие грузы; мальчишки, предлагавшие помощь с багажом; уличные торговцы; выстроенные в ряд кабриолетки и двуколки; железные дороги; прибывавшие отовсюду пассажиры; тонны всевозможных товаров, дожидавшихся своего часа погрузки на корабль; мешки с сахаром и воздух, пропитанный ромом, кубинскими сигарами, ванилью и лошадьми.
Сидя в экипаже по дороге на железнодорожную станцию Паулина вдруг заметила, что людей другого цвета кожи было куда больше, чем она себе представляла. Ее внимание привлекли платья негритянок: белые, в зеленый горошек, они обнажали плечи и приоткрывали грудь. Белокожие дамы, передвигавшиеся исключительно на экипажах, напротив, одевались куда скромнее: на них были светлые юбки и застегнутые под горло блузы. Головы первых покрывали цветные платки, тогда как вторые носили украшенные цветами шляпки и защищались от солнца зонтиками. Все вокруг играло яркими красками, и нестройная какофония голосов сливалась с колокольным звоном в единый мотив.
Все вокруг было наполнено жизнью. Все вокруг – и была жизнь.
Взгляд Паулины задержался на кучке солдат, одетых в форму заморских войск Испании. От их вида у нее перехватило дыхание. Она взглянула на них так, словно нашла в них нечто родное, близкое и любимое: в каждом из них ей мерещился Сантьяго. Слова отца Мигеля вырвали ее из размышлений:
– На Кубе хватает всего – даже самого заграничного, и скучать вам тут не придется. Здесь есть театры, представления с животными, танцы и прогулочные аллеи. Убрали всю грязь и мусор, которые, разлагаясь под солнцем, когда-то привели к стольким болезням. Ныне сознание, слава Тебе, Господи, у народа поменялось. Но не всё здесь благополучие и добродетель. Вследствие четырехсотлетнего смешения рас Куба, можно сказать, унаследовала все пороки европейской культуры. А разве можно ожидать большего от общества, состоящего из африканцев, азиатов, метисов и безродных европейцев, растленных нищетой и невежеством? Все общество здесь развращено. Негры не стремятся жениться, азиатам – не на ком: их женщин здесь нет, а европейцы только и хотят, что поскорее нажиться да убраться отсюда. И все свободное время они проводят в кабаках или, помилуй их, Господи, в доме терпимости.
Пока отец Мигель рассказывал о преимуществах и изъянах города, доктор Хустино дремал; на его состояние обратила внимание даже Фрисия.
– Ему просто нужно отдохнуть, – вместо оправданий ответила Мар.
До Карденаса поезд шел полтора суток. Там их уже поджидала группа вооруженных людей – служащих асьенды. Им было поручено сообщить прибывшим о том, что одним воскресным днем, в конце февраля, когда все отдыхали и устраивали петушиные бои, на востоке острова произошло восстание.
– Фрисия, уже из Испании начали прибывать войска, – сообщил ей сеньор, который, судя по всему, был среди них за старшего. – Хотят подавить восстание до начала дождей, а главное – сохранить в целости асьенды и урожай сахарного тростника. По всей видимости, повстанцы не взяли ни одного населенного пункта – у них нет ни достойных лидеров, ни оружия. Все указывает на то, что это очередная разбойничья заваруха.
Хотя новость была тревожной, Фрисия даже в лице не изменилась, и ее холодность подействовала на остальных успокаивающе.
Устроившись в седле, один из всадников галопом поскакал в сторону асьенды оповестить о скором прибытии гостей. Остальные сели в экипаж и, вооружившись терпением и превозмогая усталость, продолжили путь, пытаясь укрыться от изнуряющей жары тонким брезентом. После двух часов мерного потряхивания экипаж остановился.
С холма виднелась асьенда.
Глава 14
– Медицинскую часть построили за садами особняка, – рассказывал им на последнем отрезке пути отец Мигель. – У нас два родниковых колодца с насосами и трубами, по которым вода поступает куда нужно. Недалеко от асьенды бежит ручей; к нему каждое воскресенье негры ходят купаться. На входе стоит сторожевая башня. Придется вам свыкнуться с колокольным звоном: девять ударов звучат утром, созывая на молитву Деве Марии, девять ударов – в обед, и девять – вечером, возвещая о вечерне и тишине. Наше новейшее сооружение – газовый котел на двести ламп, освещающих строения в асьенде; батей, как мы его называем, – это небольшая деревня вокруг производственной зоны. За здоровьем негров следит целитель Манса Мандинга.
– Беглый раб из паленке[11], – с презрением вставила Фрисия.
– Это было во время войны, Фрисия. Сейчас он занят хорошим делом – лечит больных.
– Потому-то он еще в живых, а не висит на сейбе.
Тогда отец Мигель объяснил им:
– Манса – урожденный африканец. Те, кто родился в Африке, пользуются среди них особым почтением, впрочем, как и симарроны, принимавшие участие в минувших войнах. У них своя наука лечения, и нам в их дела вмешиваться запрещено. Они колдуют на табачном окурке и сердцах колибри. Даже не пытайтесь их понять. Видит Бог: я стараюсь наставить их на путь истинный и даже венчаю их, да только женятся они, чтобы услужить нам и получить привилегии. А как возвращаются к себе в бараки, так тут же сходятся одни с другими. Для них ревность и измена – дела белых. Они чтят африканские традиции и поклоняются своим деревянным богам с большими головами и скудными, в отличие от наших, нарядами. Здесь хватает негров всяких народностей, и смешиваться им между собой нельзя. Лукуми и конго, например, на дух друг друга не переносят. Но это вы узнаете со временем. У нас триста двадцать шесть негров старше семи лет и шестьдесят три китайца.
– По последним подсчетам шестьдесят два, – поправила его Фрисия.
– Я китайцев в жизни не видела, – призналась Росалия.
– Ох уж эти китайцы… – пробормотал отец Мигель. – Вы их и не заметите. Они никогда не болеют и умирают без интерлюдий. Просто однажды одного не досчитываешься. – Набрав воздуха в грудь, он продолжил: – Возле лечебницы стоит барак для негритянских детей. Там же и рожают. Роды принимает Мама; она и за детьми присматривает, пока их матери трудятся в полях. Сейчас в самом разгаре сбор сахарного тростника, и пора снимать урожай. До лета еще много работы. Затем наступает время застоя, и привычный ход жизни меняется.
Несколько минут спустя, когда Фрисия впала в дремоту, отец Мигель вполголоса им сообщил:
– Должен вас предупредить, что дон Педро сейчас не в себе. Его преследуют видения… Фрисия вам ничего не сказала, но вы, я считаю, имеете право об этом знать. Порой он говорит несуразицу…
– Какую? – уточнила Мар.
– Всякую… бессмыслицу. Незадолго до нашего отъезда в Испанию он сказал, что к нему пришли трое крестьян и запели ему свою песню и что как-то раз ночью он вытянул руку и дотронулся до луны. Еще он одержим птицами. Он, бедолага, помешался рассудком, хотя у него и случаются недолгие озарения. Что ж, теперь вы знаете. И главное – подыгрывайте ему, не надо тревожить его еще больше.
Чем дальше в тростниковые поля они заезжали, тем отчетливее слышалось пение рабочих с мачете. Мужчины, женщины, дети – трудились все. Одни секли тростник и мелко его рубили, другие подбирали щепки и грузили их на запряженные волами повозки. Уворачиваясь от ударов мачете и колес возов, дети бегали из стороны в сторону, перенося охапками тростник. Мужчины носили светлые одежды и соломенные шляпы. Женщины были в длинных юбках, заношенных блузках и повязанных на голове платках.
Вдоль межей на лошадях непрестанно скакали надзиравшие за работой всадники, выкрикивавшие приказы и следившие за тем, чтобы никто раньше срока не расслаблялся. Все они были европейцами, хотя по их сожженным солнцем лицам национальность угадывалась не сразу. Речь шла о бригадирах и их помощниках. По батею ходил локомотив с груженными недавно срезанным тростником вагонами, выбрасывая серый дым с белесым паром.
– Самых трудолюбивых и старательных мы переводим на работу в дома, – пояснил отец Мигель. – Для этого они должны постоянно ходить в церковь, знать основные молитвы и, конечно же, уметь понятно изъясняться по-нашему. Многие еще противятся говорить на не родном языке, особенно те, кто родился в Африке. Но большинство рады быть дворовыми, для них это все равно что подняться по общественной лестнице.
– Отсюда рождаются недовольства, – вмешалась в разговор Фрисия, которая к тому времени уже очнулась. – Эти черные одалживают своих женщин, словно вещь какую, а те и сами рады одалживаться. Зато когда кого-то переводят во двор, возмущаются. Дворовые лучше питаются, лучше одеваются и – что правда, то правда – дольше живут. Во времена рабства у нас было столько рабочих рук, сколько мы могли себе позволить купить. И их число росло, когда мы заставляли негритянок рожать одного за другим.
– Вы так говорите, словно речь идет о детском инкубаторе, – ровным голосом произнесла Мар.
Фрисия пристально на нее поглядела.
– Так все и было. Мы рабов покупали и продавали. С ребенком их цена, разумеется, возрастала. Возможно, это и негуманно, зато весьма выигрышно. После отмены рабства эта отрасль пришла в упадок.