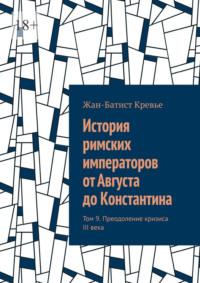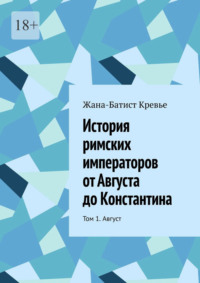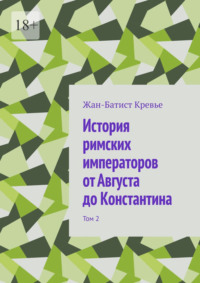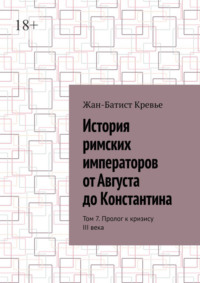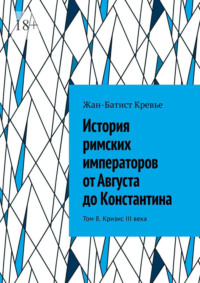Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 3. Клавдий (продолжение), Нерон
Эти грабежи продолжались лишь до прибытия преемника Санквиния. Им оказался знаменитый Корбулон, не слишком отличившийся при Тиберии и Гае, но великий военачальник, которому, возможно, не хватило лишь жизни в эпоху, когда таланты могли свободно проявляться, чтобы сравняться в подвигах с самыми прославленными римскими полководцами. Едва прибыв в свою провинцию, он спустил по Рейну свои триремы, отправил лодки через озера и каналы, где большие суда не могли пройти из-за малой глубины, настиг вражеские корабли, захватил их или потопил и сразу восстановил спокойствие и безопасность на побережьях.
Но для него было мало того, что Ганнаск больше не смел показываться в море. Жаждая славы, он замышлял завоевания и, как человек выдающийся, понимал, что должен начать с восстановления дисциплины в своей армии. Римские солдаты уже не знали ни трудов, ни тягот войны. Они, как варвары, увлекались набегами и грабежами. Корбулон вернул всю строгость древних военных законов. Он требовал, чтобы никто не отставал в походах и не вступал в бой без приказа; чтобы солдат на карауле, в дозоре, при всех дневных и ночных сменах всегда был вооружен; и рассказывают, что он казнил двоих за то, что они копали ров – один без меча, другой с кинжалом вместо меча. Тацит замечает, что такая суровость была бы чрезмерной и что, вероятно, эти факты преувеличены. Но можно заключить, говорит он, что полководец, считавшийся столь строгим в малом, проявлял крайнюю внимательность и был неумолим в серьезных делах.
Восстановление дисциплины возымело действие: оно укрепило мужество римских легионов, а враги утратили свою дерзость. Так фризы, которые почти двадцать лет с момента своего восстания [31], одержав ряд побед над Л. Апронием, оставались либо вооруженными, либо ненадежными подданными, теперь покорились; дав заложников, они ограничились землями, назначенными им Корбулоном для поселения. Он установил для них форму правления, дал законы, сенат, магистратов; а чтобы надежнее держать их в узде, построил среди их земель форт, разместив в нем сильный гарнизон.
Затем он напал на Ганнаска, но исподтишка и с помощью ловушек. Он считал его дезертиром и предателем, против которого допустим обман. Уловка удалась; Ганнаск был убит, и его смерть разожгла страсти хауков. Именно этого и желал Корбулон, тщательно взращивая семена войны: за это его хвалило большинство, но порицали наиболее разумные. «Зачем, – говорили последние, – он стремится поднять против нас враждебные народы? Если случится беда, она падет на республику. Если же он одержит победу, воинская доблесть грозна в мирное время и непременно станет обузой для ленивого и праздного принцепса».
Это было своего рода предсказание, которое вскоре сбылось. Клавдий был так далек от желания предпринимать новые походы против германцев, что приказал Корбулону отвести римские легионы за Рейн. Уже стоя лагерем на вражеской земле, полководец получил этот приказ. Подобная неожиданность, без сомнения, породила в его душе множество мыслей. Он опасался зависти императора, презрения варваров, насмешек союзников. Но, будучи совершенно владеющим собой, он лишь произнес: «О, сколь счастлива и достойна зависти участь древних римских полководцев!» – и тут же подал сигнал к отступлению.
Однако он не хотел оставлять солдат в бездействии и занял их досуг рытьем канала между Рейном и Маасом на протяжении двадцати трех миль, чтобы предотвратить разливы океана и создать в таких случаях сток, защищающий страну от наводнений. Целларий, вслед за Клувером, полагает, что этот канал – тот, что начинается у Лейдена [32], проходит через Делфт, достигает Маасланда и соединяется с Маасом у деревни Слёйс.
Клавдий даровал Корбулону триумфальные отличия, хотя и лишил его возможности их заслужить.
Вскоре после этого он удостоил той же чести Курция Руфа, который, по-видимому, командовал в Верхней Германии и чьи подвиги свелись к разработке серебряного рудника на территории маттиаков [33]. Труд был велик, а плоды весьма скромны. Вскоре рудник забросили.
Полководцы привыкали утомлять своих солдат тяжелыми и зачастую бесславными работами, лишь бы иметь повод просить триумфальных отличий, которые Клавдий, как мы уже сказали, раздавал с крайней легкостью. Это породило письмо, ходившее как бы от имени армий, в котором императора умоляли заранее удостаивать триумфальных отличий тех, кому он вручит командование легионами.
Юст Липсий и президент Бриссон полагали, что этот Курций Руф, о котором мы только что говорили, – наш Квинт Курций, автор изящной истории Александра, столь знаменитой у нас и совершенно неизвестной в древности. Их догадка правдоподобна; и одно место в десятой книге Квинта Курция, кажется, явно указывает на волнения, последовавшие за смертью Калигулы, и на умиротворение, наступившее с воцарением Клавдия. Однако следует признать, что удивительно, как Тацит и Плиний Младший, довольно подробно описавшие жизненные перипетии этого человека, ни словом не обмолвились о его сочинении. Как бы то ни было, вот что эти писатели сообщают нам о судьбе Курция Руфа, необычной сама по себе и к тому же приукрашенной чудесами и вымыслами.
Происхождение его было весьма низким: некоторые называли его отцом гладиатора. Тацит оставляет нас в неведении на этот счет, не желая говорить ложь и, как он сам признается, стыдясь сообщить правду. Курций в юности примкнул к квестору, управлявшему Африкой, и прибыл в Адрумет. Там, когда он в самый зной бродил один по обширным портикам, перед ним внезапно предстало видение – женщина выше человеческого роста – и сказала: «Руф, я – Африка. Ты придешь управлять этой провинцией в качестве проконсула и здесь умрешь». Ничто не казалось Курцию столь далеким от его участи, как такое высокое предназначение. Но чудо укрепило его дух. Вернувшись в Рим и благодаря, с одной стороны, живости ума, а с другой – щедрости друзей, он сначала получил квестуру. Затем ему удалось добиться претуры при Тиберии, обойдя кандидатов из знатнейших родов. Тиберий прикрыл темноту и даже позор его происхождения игрой слов: «Я считаю, – сказал он, – Курция сыном Фортуны». Кажется, он долго ждал консульства – и мало его заслуживал, судя по описанию Тацита, который изображает его отвратительным льстецом перед сильными, надменным со слабыми и трудным в общении с равными. Тем не менее он достиг этого; был удостоен, как я уже упоминал, триумфальных отличий; и, дабы ничто не помешало полному исполнению пророчества, ему по жребию выпало проконсульство в Африке. Но когда он прибыл в Карфаген, то же видение вновь предстало перед ним; и вскоре после этого, пораженный болезнью, которая никому из окружающих не казалась опасной, он, однако, счел ее смертельной – и событие подтвердило его предчувствие.
Тацит, несмотря на всё своё неверие, серьёзно рассказывает эту историю: Плиний Младший советуется с учёным о том, как ему к этому относиться. Что касается нас, мы не станем затрудняться, отсылая призрак Курция в одну категорию с драконом Нерона и множеством других подобных басен, которыми вкус людей к чудесному наполнил весь мир.
Плавтий вернулся в этом году из Британии и получил от Клавдия, как я уже говорил, малый триумф. Его преемником стал Осторий Скапула, храбрый и искусный воин, способный продолжать завоевания, начатые тем, кого он сменил.
Клавдий едва не погиб от покушения, заговор и мотивы которого остались неизвестными, хотя виновный был обнаружен. Задержали Гн. Новия, римского всадника [34], вооружённого кинжалом среди толпы тех, кто пришёл приветствовать императора. Его арестовали и подвергли пытке: он признал свою вину, но не назвал сообщников.
Римляне были так страстно увлечены зрелищами, что стремились лишь умножать их. По требованию Долабеллы сенат постановил, чтобы те, кто впредь будет получать квестуру, обязаны были за свой счёт устраивать бои гладиаторов. Тацит справедливо осуждает этот указ, которым должности, должныя даваться по заслугам, были оценены и, в некотором роде, выставлены на продажу.
Вителлий, бывший тогда цензором, на следующий год увидел своих двух сыновей консулами, но не одновременно. Старший, впоследствии ставший императором, занимал консульство первые шесть месяцев, а его брат сменил его на последние шесть.
А. Вителлий. – Л. Випстан [35]. От основания Рима 799. От Р. Х. 48.
Цензура не ограничивалась сроком в один год. Первоначально она длилась пять лет; затем была сокращена до восемнадцати месяцев. Клавдий и Вителлий-отец исполняли её по крайней мере в течение этого срока. Достоверно то, что они оставались цензорами и в тот год, когда оба Вителлия последовательно были консулами: именно к этому году Тацит относит важнейшие мероприятия цензуры Клавдия.
Речь шла о пополнении сената; и по этому случаю знатнейшие и наиболее выдающиеся мужи Галлии, называемой римлянами «волосатой», просили о допущении в его состав. Вся Цизальпийская Галлия уже давно в полной мере пользовалась привилегиями, связанными со званием римского гражданина. Нарбонская Галлия также дала Риму сенаторов и консулов. Даже в областях, покорённых Цезарем (о которых здесь идёт речь), представители знати получили титулы союзников Рима и римских граждан. Но им недоставало входа в сенат, а значит – и доступа к высшим должностям империи; к этому они стремились с величайшим рвением.
Их усилия добиться этого вызвали шум в Риме, и императору было подано немало представлений по этому поводу. Говорили, что Италия не настолько истощена, чтобы не суметь наполнить сенат своей столицы. Наши предки, чьи примеры справедливо приводятся, были столь строги в этом вопросе, что не желали видеть в сенате никого, кроме чистокровных римлян. Разве мало того, что народы Транспаданской Галлии, венеты и инсубры прорвались в сенат? И неужели не успокоятся, пока не введут туда толпу чужеземцев, которые, можно сказать, возьмут нас в плен в самом сердце империи? Какие привилегии останутся у драгоценных остатков древней римской знати? Что станется с бедными сенаторами из Лация? Всё будет затоплено и поглощено этими богачами, чьи отцы и деды рубили наши легионы на куски, осаждали Цезаря в Алезии. Эти события ещё свежи в памяти. Что бы было, если бы вспомнили сожжённый город, Капитолий, атакованный этим же народом? Пусть они пользуются именем римских граждан – но пусть почитают и не посягают на сенаторское достоинство и преимущества магистратур.
Клавдий ничуть не поколебался от этих речей и не был тронут этими доводами. Он созвал сенат, и вот как Тацит передаёт его речь:
Мои предки, из которых древнейший, Атта Клавз, сабин по происхождению, был одновременно удостоен римского гражданства и звания патриция, призывают меня управлять республикой по тем же принципам, какими руководствовались они сами, и подражать им, перенося сюда всё лучшее и совершенное, где бы оно ни находилось. Кто не знает, что Юлии пришли к нам из Альбы, Корункании – из Камериума, Порции – из Тускула! И, не углубляясь в древность, Этрурия, Лукания и вся Италия уже давно поставляют нам сенаторов. Мы даже расширили границы Италии до Альп [36], чтобы включить в государство не только отдельных лиц, но целые народы и племена. Ничто так не способствует укреплению внутреннего спокойствия и нашей власти, внушающей уважение иностранцам, как наши колонии, рассеянные по всему миру и смешанные с лучшими представителями местных народов. Разве мы раскаиваемся, что приняли из Испании Бальбов, а из Нарбоннской Галлии – многих знаменитых мужей? Их семьи остались среди нас и ничуть не уступают нам в любви к нашей родине, ставшей и их родиной. Что погубило лакедемонян и афинян, несмотря на их военное могущество, как не их смехотворная ревность к праву гражданства, из-за которой они исключали покорённые народы из своих городов и всегда обращались с ними как с чужеземцами? Напротив, наш основатель проявил столь превосходную мудрость, что часто один и тот же день видел один и тот же народ и врагом, и гражданином Рима. У нас были цари-чужеземцы. Даже допущение сыновей вольноотпущенников [37] к магистратурам – что некоторые считают новшеством нашего времени – имеет примеры в древности.
Мне возражают, что мы воевали с сенонами. Но разве вольски и эквы никогда не сражались против нас? Наш город был взят галлами. Но мы давали заложников этрускам, а самниты заставили нас пройти под ярмом. В конце концов, если вспомнить все наши войны, ни одна не была завершена так быстро, как та, что сделала нас властителями Галлии. И со времени её покорения непрерывный и нерушимый мир свидетельствует о преданности этих народов. Они переняли наши нравы, изучили наши искусства, смешали свою кровь с нашей через браки. Позволим же им приносить нам своё золото и богатства, вместо того чтобы владеть ими единолично и без нас. Сенаторы, всё, что теперь считается древнейшим, когда-то было новым. Плебеи получили доступ к магистратурам после патрициев, латины – после плебеев, прочие народы Италии – после латинов. То же будет и с нынешним установлением. Со временем оно обретёт почтение, подобающее древности, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, само станет примером.
Эта речь, вложенная Тацитом в уста Клавдия, может считаться сокращённым изложением той, которую император действительно произнёс в сенате. В этом легко убедиться, сравнив её с подлинным фрагментом речи Клавдия, сохранившимся до наших дней в лионской ратуше и включённым Юстом Липсием в его комментарии к Тациту. Там мы находим и опровержение упрёка в новшествах ссылкой на перемены в управлении Римской республики, и довод, основанный на неизменной преданности Галлии Римской империи со времени её покорения Цезарем. Всё это изложено вяло, многословно, с излишними отступлениями, но язык плавный и не лишён изящества.
Одно из упомянутых отступлений – проявление тщеславия Клавдия по поводу завоевания части Британии.
Если бы я стал здесь перечислять, – говорит он, – какими войнами начали наши предки и как далеко мы расширили наше владычество, я бы опасался, что меня заподозрят в тщеславной гордости из-за того, что границы империи отодвинуты за Океан.
Не знаю, сочтут ли читатели, ознакомившись с этим фрагментом полностью, что Тацит оказал нам дурную услугу, заменив подлинную речь Клавдия своей. Если бы он дословно воспроизвёл её в своём сочинении, историческая точность была бы соблюдена строже, но читатели со вкусом остались бы менее довольны. Он мог бы сохранить эту речь отдельно от основного текста, если бы древние стремились к той же точности, какую мы ценим сегодня, и если бы им пришло в голову, как теперь принято, помещать в конце своих исторических трудов собрания доказательств и оригинальных документов.
Речь императора повлекла за собой соответствующий сенатусконсульт, и галлы, ещё сто лет назад бывшие врагами Рима, получили право занимать высшие должности. Этот пример, как и предвидел Клавдий, был впоследствии повторён, и полное право гражданства, распространяясь постепенно, привело в конце концов к тому, что все подданные империи стали римлянами. Покорённые народы разделили почести с народом-победителем; сенат открылся для всех, и они могли даже претендовать на императорскую власть. Таким образом, благодаря римскому милосердию все народы слились в один, и Рим стал считаться общим отечеством.
Эта политика, столь мягкая и справедливо восхваляемая г-ном Боссюэ, имела, однако, как и всё человеческое, свои недостатки. Принципы древнего Рима исказились от смешения с множеством чужеземных нравов. Варвары, часто носившие лишь имя римлян, захватывали высшие должности и даже императорское достоинство. Август был бы крайне удивлён, если бы мог предвидеть, что, устанавливая в Риме монархическое правление, он трудился для галлов, африканцев, иллирийцев и фракийцев, которым суждено было стать его преемниками.
Эдуи первыми из галльских народов получили новую привилегию. Эта честь была им оказана в знак признания их давнего союза и звания «братьев римлян», которым они давно гордились.
В то же время Клавдий создал новые патрицианские семьи, поскольку число не только истинно древних родов, но и тех, что были добавлены Цезарем, а затем Августом, с каждым днём уменьшалось. Его выбор пал на самых знатных сенаторов, отличившихся как своим происхождением, так и должностями, которые занимали они или их отцы.
Из них нам известен по имени лишь один – Л. Сальвий Отон, отец императора Отона. Его род происходил из Ферентина в Тоскане, где занимал видное положение. Его отец, возвысившийся благодаря влиянию Ливии, однако, не прошёл дальше претуры. Сам он был особенно любим Тиберием, на которого так походил лицом, что многие считали его сыном императора. Это был достойный человек, прошедший все ступени почётных должностей до консулата. На всех этих постах, а также в других доверенных ему должностях, вплоть до проконсульства в Африке, он приобрёл репутацию строгого человека. Мы уже приводили один пример этого после мятежа и смерти Камилла Скрибониана и говорили, что Клавдий сначала обиделся на него, но затем возобновил с ним дружбу. Когда он включил его в число патрициев, то произнёс ему большую похвалу, закончив словами:
Я сочту себя счастливым, если мой сын будет на него похож.
Я уже говорил, что среди тех, кто был исключён из списка сената во время цензуры Клавдия, были и такие, кто удалился добровольно, поскольку их скромное состояние не позволяло поддерживать блеск сенаторского достоинства. Тацит добавляет, что эта дверь была открыта даже для тех, чья репутация была запятнана. Клавдий уговаривал их просить отставки, заявив, что он назовёт вместе и без разбора тех, кого исключил из сената, и тех, кто удалился по собственной воле, чтобы уменьшить позор клейма бесчестия. Но такое смешение, выгодное для виновных, кажется мне несправедливым по отношению к тем, кого невинные причины или даже остаток стыда побудили уйти добровольно. Тем не менее, эта снисходительность была встречена с большим одобрением, и консул Випстан предложил присвоить Клавдию титул «Отца сената».
Ибо, – сказал он, – титул «Отца отечества» стал слишком обычен: новые по своему характеру благодеяния требуют и новых почётных званий.
Сам Клавдий пресёк эту чрезмерную лесть консула.
Завершение люстра прошло обычным образом. Число римских граждан, согласно общепринятому тексту Тацита, составило шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи душ. Эта перепись дала один из самых редких примеров человеческой жизни, продлённой за обычные пределы. Некий Т. Фуллоний из Бононии объявил себя стопятидесятилетним, и поскольку это казалось невероятным (как оно и было), Клавдий приказал проверить факт по записям прежних переписей.
Примечания:
[1] Страбон (кн. II, стр. 120) выражается точно, когда говорит, что самая западная точка Британии находится к северу от Испании.
[2] ГОРАЦИЙ, «Оды», III, 4.
[3] ИЕРОНИМ, «Против Иовиниана», II, 6.
[4] ЦИЦЕРОН, «К близким», VII, 7.
[5] Название этих островов происходит от самого олова, которое греки на своем языке называют κασσίτερος (касситерос) или stannum.
[6] См. «Торговый словарь», статья «Жемчуг».
[7] ТАЦИТ, «Агрикола», 13.
[8] ПОМПОНИЙ МЕЛА, III, 6.
[9] Уиссан (ныне Уэссан, Франция).
[10] Булонь-сюр-Мер.
[11] Сейчас это Малдон, согласно Кэмдену. Но один английский ученый, цитируемый в словаре Ламартиньера (статья Camulodunum), опровергает это мнение и помещает этот город в миле от деревни Уолден, в графстве Эссекс, к западу.
[12] ТАЦИТ, «Агрикола», 13.
[13] СВЕТОНИЙ, «Клавдий», 24.
[14] 37 ливров 10 су = 58 франков 44 сантима по расчету г-на Летронна.
[15] 155 ливров 6 су = 243 франка 50 сантимов по расчету г-на Летронна.
[16] ТАЦИТ, «Анналы», XI, 3.
[17] Г-н де Тиллемон говорит, что Сенека называет этот новый остров Терасией, что было бы непростительной ошибкой, поскольку Терасия упоминается у Страбона, писавшего при Тиберии. Небольшая правка Гронове, основанная на рукописях, избавляет Сенеку от этого упрека. Этот критик читает: Theran, Therasiam, et hanc nostræ ætatis insulam (СЕНЕКА, «Естественные вопросы», VI, 21).
[18] ТАЦИТ, «Анналы», XI, 1.
[19] 187 500 ливров = 292 253 франка по расчету г-на Летронна.
[20] 125 000 ливров = 194 835 франков по расчету г-на Летронна.
[21] ТАЦИТ, «Анналы», XI, 4.
[22] 50 000 ливров = 77 934 франка по расчету г-на Летронна.
[23] 1250 ливров = 1948 франков по расчету г-на Летронна.
[24] КВИНТИЛИАН, «Наставления оратору», XII, 7.
[25] См. «Трактат об изучении красноречия в суде», статья 3.
[26] Если спросят, почему мы не следуем принятому у римлян способу исчисления лет от основания Рима, мы ответим, что Тит Ливий, которым руководствовался г-н Роллен в начале «Истории Римской республики», по мнению опытных хронологов, придерживался взглядов Катона. В периоды, где хронология Рима неясна (а она становится точной только после войны с Пирром), эта система удобнее и логичнее. Раз приняв ее, приходится следовать ей до конца, а разница в два года несущественна для такой долгой истории, как история Рима.
[27] ТАЦИТ, «Анналы», XI, 12.
[28] Флавий, его отец, несомненно, был гражданином и, возможно, римским всадником.
[29] Здесь я немного отступаю от текста Тацита по причинам, которые было бы слишком долго излагать и которые большинству моих читателей не нужны.
[30] Каннинефаты занимали часть острова, на котором жили батавы.
[31] 779 год от основания Рима.
[32] Рийкиус в своих примечаниях резко оспаривает это мнение. Предоставляю дискуссию географам.
[33] Марбург.
[34] Этот факт очень похож на рассказ Светония («Клавдий», 13). Я уже упоминал об этом.
[35] Рийкиус утверждает, что именно так следует читать имя этого консула, а не Vipsanius, как в распространенных изданиях Тацита.
[36] В древности вся так называемая Цизальпинская Галлия не считалась Италией.
[37] Светоний («Клавдий», 24) утверждает, что Клавдий ошибался в этом пункте и неправильно понял значение латинского слова libertinus, которое в его время означало вольноотпущенника, но в глубокой древности обозначало сына вольноотпущенника. Не знаю, легко ли сегодня решить этот спор, который, впрочем, не слишком для нас важен.
Книга Вторая
§ I. Брак Мессалины с Силием
А. Вителлий. – Л. Випстан. От основания Рима 799. От Р. Х. 48.
Под конец этого года Клавдий узнал о своем домашнем позоре. Потребовалось, чтобы он проявился сверх всякой меры, чтобы мог достигнуть его слуха.
Силий, ослепленный ли своими надеждами или думая, что опасность, которой подвергала его открытая связь с Мессалиной, может быть устранена только доведением дела до крайности, настоятельно убеждал эту принцессу сбросить маску и завершить предприятие. Он представлял ей, что нечего ждать смерти Клавдия. Те, кому не в чем себя упрекнуть, могут избирать безобидные пути; но у преступников нет иного спасения, кроме отваги. «Нас поддерживает, – прибавил он, – множество сообщников, которых обуревают те же страхи, что и нас. Я не женат, у меня нет детей: я готов жениться на вас и усыновить Британника. Вы сохраните прежнюю власть и будете наслаждаться ею без тревоги, если только мы предупредим Клавдия, который неосторожен против козней, но гнев которого внезапен и склонен к скорой мести».
Мессалина выслушала эту речь довольно холодно, не из любви к мужу, но потому, что боялась, как бы Силий, достигнув вершины своих желаний, не стал бы презирать ее и не оценил бы тогда по достоинству преступление, которое нравилось ему, пока было ему необходимо. Тем не менее она одобрила проект брака, который манил ее бесчестием, – последним удовольствием, говорит Тацит, для тех, кто пресытился всеми другими от чрезмерного их употребления. Она ухватилась за эту мысль и осуществила ее без промедления. Клавдий отправился в Остию, где должен был пробыть некоторое время, и Мессалина с Силием публично обвенчались на глазах у всего города, со всеми обычными церемониями, со всей пышностью и великолепием, подобающими законному браку лиц столь высокого звания. Говорят даже, что брачный контракт был подписан самим Клавдием, которому Мессалина внушила, что дело идет об отвращении от его головы некоей опасности, предсказанной гадателями.
Этот факт должен казаться невероятным, и те, от кого мы его узнали, чувствовали это. Но нет факта, лучше засвидетельствованного; и писатели, почти современные, которые его подтверждают, не оставляют нам никакой свободы сомневаться в нем хоть сколько-нибудь.
Мессалина совершила большую оплошность, восстановив против себя вольноотпущенников. Действуя заодно с ними, она до тех пор безнаказанно совершала величайшие преступления. Но, погубив Полибия, о котором мы уже имели случай говорить, одного из самых влиятельных среди них, она встревожила их всех страхом подобной участи. Этот страх еще более усилился из-за ее брака с Силием. Весь дом принца содрогнулся. Особенно самые могущественные из вольноотпущенников, видя, к чему клонится столь странный поступок, и чувствуя, что в случае переворота они окажутся наиболее уязвимыми, делились друг с другом своими опасениями и взаимно побуждали принять меры для безопасности своего господина и своей собственной. Они громко говорили, что, пока императорское ложе осквернял мим, бесчестие было ужасно, но не представляло никакой опасности: не то с молодым человеком знатного рода, которому его возраст, гордость за свою красоту и близкое консульство могли внушить самые высокие надежды. Они хорошо понимали, что в задуманном ими предприятии есть риск: что нельзя рассчитывать на Клавдия, глупого, как он был, и привыкшего повиноваться жене: что Мессалина умела диктовать смертные приговоры и приводить их в исполнение по своему произволу. С другой стороны, сама слабохарактерность Клавдия их обнадеживала; и, если бы им удалось сразу взять верх и предвосхитить впечатление принца чудовищностью преступления, они надеялись так быстро покончить с делом, что Мессалина была бы осуждена, прежде чем ее успели бы выслушать. Но они понимали, что главное – не дать ей возможности быть выслушанной и закрыть уши принца для ее мольб, даже если бы она решилась во всем признаться.