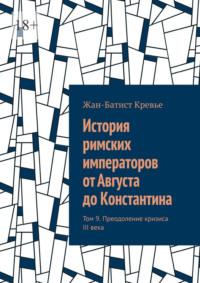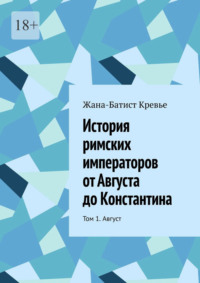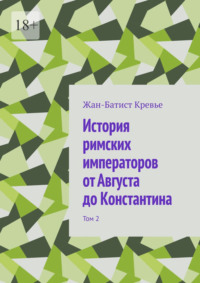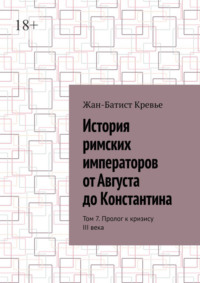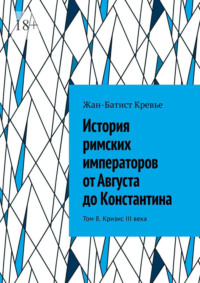Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 3. Клавдий (продолжение), Нерон
Фракия, до тех пор имевшая своих царей, в этом году стала римской провинцией. Мы видели, что при Тиберии она была разделена между Реметалком и детьми Котиса, из которых только один, также названный Котисом, известен в истории. Гай отдал долю Котиса Реметалку, а самого Котиса вознаградил, сделав царем Малой Армении. Когда Реметалк был убит своей женой, римляне, вероятно, воспользовались этим предлогом, чтобы завладеть страной.
Новый остров возник в Эгейском море [17] близ Феры и Терасии. Мы упоминали о подобном явлении при Тиберии, в 768 году от основания Рима.
Клавдий, желая принять четвертое консульство, взял себе в коллеги Вителлия, который таким образом стал консулом в третий раз.
ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ ЦЕЗАРЬ АВГУСТ ГЕРМАНИК IV – Л. ВИТЕЛЛИЙ III. 798 г. от Р. Х. – 47 г. н. э.
В республике не было цензоров со времен Павла и Планка, которые носили этот титул при Августе, но без особой чести и успеха. Императоры осуществляли их власть как надзиратели за нравами. Они назначали сенаторов и римских всадников. Что же касается функций цензуры, заключавшихся в переписи граждан и их имущества, то, кажется, они полностью прекратились после смерти Августа. Клавдий, будучи консулом в четвертый раз, возродил эту должность: он принял ее на себя и разделил с тем же [прим. ix. a.] Вителлием, который уже был его коллегой по консульству.
Это невероятное возвышение Вителлия было наградой за его позорные угодничества перед Мессалиной и вольноотпущенниками. Ему было мало просто подчиняться их воле: он унижался перед ними самым низким и рабским образом. Однажды он умолял Мессалину позволить ему снять с нее обувь; сняв правую туфлю, он положил ее между тогой и туникой, хранил и всегда носил с собой как драгоценный залог, время от времени целуя ее. Среди своих домашних богов он держал золотые изображения Нарцисса и Палласа. Он не боялся выглядеть смешным из-за нелепостей, лишь бы они были лестными. Когда Клавдий в том году, как мы скоро расскажем, устроил Сеcularные игры, Вителлий сказал ему: «Да будет вам суждено часто праздновать этот праздник!» Таково было унижение, до которого честолюбие довело человека, впрочем, обладавшего умом и способностями.
Клавдий в качестве цензора составил список сената и исключил из него некоторых, большинство из которых удалились добровольно, так как сенаторское достоинство было обременительно для их скромного состояния. Напротив, он почти насильно ввел в сенат некоего Сурдония Галла, который удалился в Карфаген. Клавдий вызвал его и сказал: «Я хочу связать тебя здесь золотой цепью» – и назначил его сенатором.
При пересмотре списка всадников и вообще в своей цензорской деятельности, как замечает Светоний, он проявлял ту же переменчивость здравого и неразумного суждения, которая царила во всех его поступках. Он поставил позорную отметку рядом с именем одного всадника, но когда друзья того заступились, согласился стереть ее, сказав: «Однако я не буду против, если след от помарки останется». В этом смешении снисходительности и строгости есть даже нечто тонкое.
В других случаях он проявлял чрезмерную мягкость. Когда молодого человека, уличенного во многих проступках, оправдывал и даже хвалил его отец, Клавдий освободил его от всякого порицания, сказав: «У него есть свой цензор». Профессионального развратника, известного по всему городу своими изменами, он просто предупредил, чтобы тот бережнее относился к своему здоровью или хотя бы вел себя осмотрительнее. «Ибо, – добавил он, – зачем мне знать, кто ваша любовница?» Напротив, он отметил нескольких граждан за весьма незначительные проступки, которые до него никогда не служили поводом для строгости цензоров: за выезд из Италии без его разрешения, за присоединение к свите и чиновному рангу какого-то царя в провинции. Некоторые с позором для него опровергли обвинения, выдвинутые на основе небрежных донесений его соглядатаев. Люди, которых он упрекал в безбрачии, бездетности или бедности, доказали, что они женаты, имеют детей и богаты. Одного он обвинил в том, что тот в ярости и отчаянии покушался на свою жизнь и ранил себя мечом. Обвиняемый разоблачился перед ним и показал, что на его теле нет ни единой раны.
Он не допускал, чтобы те, кого он призывал к ответу, пользовались помощью адвокатов: каждый должен был говорить за себя и объясняться как умел. В этом он был прав, учитывая, что цензоры не действовали судебным порядком, и все происходило перед ними без формальностей и сложных прений.
Он заслужил похвалу и за свое рвение в борьбе с роскошью, приказав купить и разбить на куски искусно сделанную серебряную колесницу, выставленную на продажу.
Но вновь впадая в глупости, он в один день издал двадцать указов, два из которых касались весьма странных предметов. Один предупреждал, что, поскольку урожай винограда ожидается обильным, следует тщательно смолить бочки. Другой рекомендовал сок тиса как средство против укуса гадюки.
Пока Клавдий занимался цензорскими делами, Мессалина и вольноотпущенники продолжали свою жестокую игру, подвергая опасности разных людей под предлогом заговора против государства и императора. Они вовлекли в это и ничтожных лиц, которых Клавдий проигнорировал или наказал лишь слегка, говоря, что «на блохе не мстят, как на льве». Но его зять Помпей Магн, муж его старшей дочери Антонии, поплатился жизнью. Хотя его вина заключалась лишь в том, что он не угодил Мессалине, Клавдий приказал заколоть его в постели без всякого суда. Его отец Красс Фруги и мать Скрибония погибли вместе с ним. Их знатность была их преступлением. Что касается ума, Красс вовсе не был опасен: он вполне походил на Клавдия своей глупостью и был так же достоин занять его место, как и неспособен его домогаться.
Валерий Азиатик впоследствии был обвинен. Тацит – ибо мы вновь встречаем его здесь, что читатель легко заметит – приводит подробное описание этого дела [18], но оставляет некоторые обстоятельства для догадок, поскольку начало его повествования до нас не дошло.
Эта мрачная интрига, жертвой которой стал один из самых знаменитых членов сената, дважды удостоенный высшего сана в империи, по-видимому, зародилась из-за женской ссоры между Мессалиной и Поппеей. Последняя, дочь консуляра Поппея Сабина, получившего при Тиберии триумфальные отличия, была прекраснейшей женщиной Рима, но отнюдь не самой добродетельной.
Она вела позорную связь с пантомимом Мнестером, в которого, как мы видели, Мессалина была безумно влюблена. Императрица, снедаемая ревностью, убедила себя, что Валерий Азиатик также причастен к разврату Поппеи. Кроме того, она страстно желала завладеть садами Лукулла, которые этот богатый консуляр украсил и обустроил с величайшей роскошью. Поэтому она решила погубить одновременно и Азиатика, и Поппею, поручив их обвинение Суилию – о котором уже шла речь и который еще не раз появится в дальнейшем, – адвокату, более знаменитому своим талантом, чем честностью. В помощники ему она дала Сосибия, воспитателя Британника. Этот ловкий грек, притворяясь ревностным слугой императора, внушил ему, что могущество и богатство частных лиц опасны для государя. Что Азиатик был главным виновником смерти Гая и настолько дерзок, что признавался в этом и даже хвалился этим перед народным собранием Рима. Что, снискав себе этим великую славу в городе и видя, как его репутация распространяется по провинциям, он готовится отправиться подстрекать германские легионы. Что, будучи уроженцем Вьенны и связанный родством с самыми знатными родами Галлии, он легко может поднять восстание среди народов, от крови которых происходил.
Клавдий был чрезвычайно доверчив, стоило лишь намекнуть ему на малейшую опасность. Поэтому, не утруждая себя дальнейшими разбирательствами, он отправил преторианского префекта Криспина с отрядом гвардейцев, словно дело шло о подавлении начинающейся войны. Азиатик в тот момент находился в Байях, в Кампании. Его схватили, заковали в цепи, доставили в Рим – и немедленно начали суд, не в сенате, а в покоях Клавдия, в присутствии Мессалины.
Суилий, выступавший обвинителем, обвинил Азиатика в подкупе солдат деньгами, а также иными, еще более преступными способами. Кроме того, он укорял его в прелюбодеянии с Поппеей и в иных противоестественных пороках. Азиатик был человеком умным и мужественным. Он защищался с такой силой, что Клавдий был глубоко тронут, а сама Мессалина не смогла сдержать слез. Однако в ней это было лишь механическое впечатление, не изменившее ее сердца. Выйдя, чтобы утереть глаза, она наказала Вителлию не дать обвиняемому ускользнуть.
Между тем обвинение разваливалось само собой. Азиатик потребовал, чтобы ему предъявили хотя бы одного из тех солдат, чью верность он якобы подкупил. Привели одного, который его даже не знал и которому лишь сказали, что Азиатик – лысый. Этот лжесвидетель, спрошенный, знает ли он обвиняемого, ответил утвердительно и, чтобы доказать, указал на кого-то из присутствующих, приняв его за Азиатика, поскольку тот тоже был лысым. Над этой ошибкой посмеялись; Клавдий осознал ее значение и склонялся к оправданию обвиняемого.
Вителлий помешал этому благому намерению ужасным предательством. Приняв смягченный тон и пролив несколько слез, он сказал, что Азиатик был его давним другом и что они вместе оказывали почтение Антонии, матери императора. Он перечислил заслуги обвиняемого перед республикой, его доблесть в войне с бриттами и все прочие доводы в его пользу – и заключил, что ему следует предоставить свободный выбор способа смерти. Клавдий так тупо следовал внушениям тех, кому привык подчиняться, что согласился с этим, полагая, что проявляет милосердие.
Дион передает события несколько иначе. Он пишет, что Вителлий притворился, будто Азиатик поручил ему просить о праве самому избрать себе смерть, и что Клавдий, поверив этому, счел просьбу обвиняемого признанием вины. Но, возможно, это объяснение было придумано теми, кто не понимал, до какой степени глупость помрачала разум Клавдия.
Как бы то ни было, Азиатик умер с твердостью, достойной его прежней славы. Друзья уговаривали его избрать медленный и легкий путь к смерти, отказавшись от пищи. Он ответил, что благодарен им за эту последнюю заботу, но просит освободить его от следования их совету. Совершив обычные упражнения, искупавшись и весело поужинав, он велел вскрыть себе вены, не позволив себе ни единой жалобы – разве что заметил, что было бы честнее погибнуть от козней Тиберия или ярости Гая, чем от коварства женщины и грязного языка Вителлия. Перед смертью он пожелал увидеть костер, на котором должно было сгореть его тело, и велел перенести его на другое место, чтобы дым не повредил деревьям – до такой степени он сохранял присутствие духа в последние мгновения.
Пока в покоях Клавдия судили Азиатика, Мессалина, как я уже говорил, вышла. Она спешила избавиться от Поппеи и послала к ней людей, которые так напугали её тюрьмой, что та решилась на добровольную смерть. Всё это произошло без ведома Клавдия: спустя несколько дней, увидев за своим столом Сципиона, мужа Поппеи, он спросил, почему тот не привёл жену; и Сципион ответил, что она умерла.
Два брата, знатнейших римских всадника, были замешаны в этом деле за то, что предоставили свой дом для встреч Мнестра и Поппеи. В этом состояло их преступление. Но Суилий обвинил их в сенате за сон, который видел один из них и который они истолковали как предзнаменование общественных бедствий или скорой смерти принцепса. Они были осуждены, а те, кто помогал Мессалине во всей этой интриге, получили награды. Префекту претория Криспину было пожаловано полтора миллиона сестерциев [19] и преторские знаки отличия. Вителлий добился для Сосибия миллиона сестерциев [20] – как для человека, полезного республике уроками, которые он давал Британику, и советами, которыми помогал императору.
Сципион, муж Поппеи, присутствовал на этом заседании сената; когда же пришла его очередь говорить, он вышел из положения как человек умный: «Я вынужден, – сказал он, – думать о поведении Поппеи так же, как и все остальные. Так что можете считать, что я голосую вместе со всеми».
Суилий, которому, несомненно, досталась часть имущества Азиатика, подстрекаемый жаждой наживы, с жадной жестокостью предался ремеслу доносчика, и у него нашлось немало подражателей его дерзости. Ибо при принцепсе, страстно любившем вершить суд и сосредоточившем в своих руках всю власть законов и магистратов, настал благоприятный момент для тех, кто стремился обогатиться за счёт несчастных. Адвокаты бесстыдно торговали своими обязательствами, и их вероломство, по словам Тацита [21], «продавалось, как товар, открыто выставленный на рынке». Это подтверждает трагический случай с одним знатным римским всадником, который, заплатив Суиллию четыреста тысяч сестерциев [22] и узнав, что тот предаёт его и сговорился с противной стороной, пришёл в дом своего неверного защитника и закололся там.
Шум, вызванный этим событием, привёл к жалобам, которые были доведены до сената Гаем Силием, назначенным консулом и личным врагом Суилия. По этим представлениям сенаторы почти единодушно потребовали восстановить действие закона Цинция, изданного в древности для запрета адвокатам получать деньги или подарки от своих клиентов и впоследствии возобновлённого Августом. Те, кто чувствовал себя заинтересованным в этом деле, воспротивились желанию сената. Но Силий настаивал с жаром, приводя примеры древних ораторов, которые считали славу в грядущих веках единственной достойной наградой за свой талант. «Если отступить от этого принципа, – добавил он, – красноречие, первое из изящных искусств, унизится, став грязным ремеслом. Даже верность подвергается опасности искушения, как только позволяют себе думать о размерах гонораров. Кроме того, если судебные процессы не приносят никому дохода, их число уменьшится; тогда как сейчас поддерживают вражду, умножают обвинения, ненависть, оскорбления, чтобы, подобно тому как болезни обогащают врачей, сутяжничество в судах обогащало адвокатов. Пусть они возьмут себе в примеры Поллиона, Мессалу или даже Аррунция и Эзернина, чья память ещё свежа и которые достигли вершины славы и почестей благодаря безупречной жизни и красноречию, не запятнанному корыстью».
Эта горячая речь склонила все голоса, и уже готовились постановить, что те, кто брал деньги у своих клиентов, будут наказаны как вымогатели. Тогда Суилий, Коссутиан Капитон (о котором речь пойдёт далее) и другие, оказавшиеся в таком же положении, видя, что дело не в расследовании их действий (поскольку факты были очевидны и неоспоримы), а в том, что вот-вот будет вынесен приговор, приблизились к присутствовавшему Клавдию и стали просить помилования за прошлое. Тот милостиво кивнул, не проронив ни слова. Ободрённые этим знаком покровительства, они возвысили голос. «Кто из нас, – сказали они, – настолько горд, чтобы претендовать на бессмертие? Мы предлагаем гражданам необходимую помощь, дабы слабые, лишённые защиты, не были угнетены сильными. Впрочем, красноречие не даётся даром. Мы забрасываем свои дела, чтобы заниматься чужими. Есть разные пути для приобретения честного состояния: военная служба, обработка земель. Но никто не станет заниматься делом, если не надеется извлечь из него выгоду. Поллиону и Мессале, обогатившимся в гражданских войнах, как и Эзернину и Аррунцию, унаследовавшим от отцов большое состояние, легко было придерживаться благородных и возвышенных принципов. А если привести противоположные примеры – разве Клодий и Курион не получали платы за свои речи? Мы – сенаторы скромного положения, которые в мирное время существуют лишь благодаря полезным в мирные дни занятиям. Если лишить учёные труды их плодов, сами эти труды погибнут».
Эта позиция была менее достойной, но Клавдию она показалась не лишённой убедительности. Был найден компромисс: постановили, что адвокатам разрешается получать не более десяти тысяч сестерциев [23], а превышение этой суммы будет считаться вымогательством. Это постановление стало законом. Однако знаменитые ораторы, как видно из примера Плиния Младшего, сохранили древнее благородство своей профессии, работая бесплатно. Квинтилиан рассмотрел этот вопрос [24] и изучил, позволительно ли адвокатам взимать плату за свои услуги. Он высказывается на этот счёт так разумно, что, по замечанию г-на Роллена [25], даже там, где обычай иной, его принципы должны служить правилом.
В этот год, который был семьсот девяносто восьмым от основания Рима согласно исчислению Катона, которому мы следуем, являлся восьмисотым, если придерживаться вычисления Варрона относительно даты основания города, и римляне в то время считали именно так [26]. Таким образом, это был год проведения Секулярных игр, если предположить, что они должны праздноваться каждые сто лет. Август придерживался иной системы, согласно которой век составлял сто десять лет, и, следовательно, он провёл Секулярные игры в семьсот тридцать пятом году от основания Рима. Клавдий не счёл себя обязанным следовать примеру Августа в этом вопросе. Желая украсить своё правление торжественностью этого празднества, он предпочёл общепринятый способ исчисления века и в этом году отпраздновал Секулярные игры.
Однако это привело к нелепости в приглашении на эти игры. Предписанная формула призывала граждан на праздник, которого никто из них никогда не видел и никогда не увидит. Но с момента игр Августа прошло всего шестьдесят четыре года, так что многие из живших тогда уже видели их, и актёр Стефанион играл для одних и тех же зрителей.
Клавдий проигнорировал это обстоятельство: до того ему казалось прекрасным устроить Секулярные игры. Мы увидим, как Домициан будет мыслить и действовать таким же образом, повторя ту же нелепость. Игры и зрелища были важным делом для римлян. Народ любил их до безумия, а правители использовали их как инструмент своей политики, чтобы развлекать граждан и отвлекать их от серьёзных дел, которые могли бы затронуть интересы государства. Клавдий за время своего правления устроил множество зрелищ всех видов, столько же по личному вкусу и склонности, сколько и из политических соображений, к которым он был мало способен.
Среди представлений, сопровождавших праздник во время проведённых им Секулярных игр, была Троянская скачка, исполняемая детьми знатнейших семей Рима. Британик участвовал в ней вместе с Л. Домицием, который вскоре был усыновлён Клавдием и получил имя Нерона. Между этими двумя юными принцами народная любовь склонилась к последнему. Он был единственным мужским потомком Германика, чья память ещё была дорога римскому народу. О нём распространялись сказки, призванные чудесным образом привлечь к нему почтение доверчивой толпы: говорили, что драконы охраняли его в детстве. Его мать Агриппина, чью сестру Мессалина уже погубила и которая сама находилась в опасности, вызывала сочувствие. Мессалина заметила эти настроения, и ничто не мешало ей устранить ту, кто ей мешал, кроме новой страсти, которую она воспылала к красивейшему юноше всей римской знати – Силию, назначенному консулом, о котором мы уже упоминали, сыну того Силия, которого Тиберий принёс в жертву своей ненависти к дому Германика.
Это была не любовь, а безумие: и этот предмет, заполнив ум и сердце Мессалины, изгнал оттуда все другие мысли. Она начала с того, что заставила возлюбленного развестись с женой Юнией Силаной, женщиной самого высокого происхождения, чтобы владеть им одной. Силий понимал и величину преступления, и степень опасности [27]: но гибель его была неизбежна, если бы он сопротивлялся; он не терял надежды перехитрить слабоумного Клавдия; он был осыпан почестями и богатствами; и, по несчастному ослеплению, вместо того чтобы погибнуть с честью и унести в могилу славу невинности, он вверял будущее судьбе и тем временем наслаждался настоящим. Мессалина нисколько не скрывалась: она приходила к Силию с большой свитой; сопровождала его, когда он появлялся на публике; осыпала его почестями и милостями; наконец, как предвестие готовящегося переворота, рабы принца, его вольноотпущенники, мебель и экипажи оказались в доме соблазнителя его жены. Эти бесчинства кажутся невероятными, но они ничтожны по сравнению с теми, о которых мы расскажем в следующем году и которые привели к катастрофе.
Тем временем Клавдий занимался обязанностями цензора. Он строгими указами пресёк вольность, которую позволял себе народ в театре, оскорбляя криками некоторых знатных дам и Помпония, консуляра и знаменитого автора трагедий. Он провёл закон против ростовщических займов, выдаваемых молодым людям в расчёте на смерть их отцов. Он продолжил работы по строительству акведуков. Он даже обратил внимание на предмет, более достойный грамматика, чем принца. Когда-то он написал трактат, доказывая, что римскому алфавиту не хватает трёх букв. Он захотел ввести их употребление императорским указом: и действительно, они использовались при его правлении в публичных памятниках; после его смерти они были настолько забыты, что достоверно известны лишь две – дигамма эолийская, соответствующая нашему «в» (согласному), и антисигма, заменявшая сочетание «ps»; третья осталась неизвестной.
Иностранные дела этого года представляют достаточно интересный материал. Произошли волнения в Азии и на Востоке; были беспокойства и в Германии. Поскольку события на Востоке образуют цепь происшествий, заполняющих несколько лет, я оставлю их для отдельного изложения, где всё будет собрано вместе. То, что произошло в Германии, более обособленно.
Херуски в своих междоусобицах потеряли почти всю свою знать, и у них остался лишь один отпрыск царского дома, находившийся в Риме. Его звали Италик, он был сыном Флавия и, следовательно, племянником Арминия; по матери его дедом был Катумер, вождь племени хаттов. К столь знатному происхождению он добавлял личные достоинства: молодой принц был красив лицом, статен и обучен всем военным упражнениям как римлян, так и германцев. Херуски, попросившие его себе в цари, получили согласие Клавдия, который одарил Италика богатыми дарами, дал ему охрану и, отправляя его, напутствовал возобновить славу предков. «Ты первый, – сказал он, – кто, родившись в Риме и воспитанный среди нас не как заложник, а как гражданин [28], отправится владеть чужеземным царством».
Сначала Италику всё удавалось. Поскольку он не участвовал в распрях, разделявших херусков, он относился ко всем одинаково и тем всем нравился. Он сочетал в своём поведении римские обычаи с нравами своего народа: с одной стороны, мягкость и умеренность избавляли его от врагов; с другой – излишества за столом и кутежи делали его приятным для варваров. Таким образом, его двор был многолюден, а слава начала распространяться.
Те, кто выделялся в прежних распрях, стали опасаться, что сами дали себе господина. Они удалились к соседним племенам и своими речами настраивали их против Италика. «Германия, – говорили они, – теряет свою свободу, и среди нас утверждается римское владычество. Что же, разве среди природных германцев не нашлось никого, кто мог бы занять первое место, и нужно было искать в Риме сына предателя Флавия, чтобы вознести его над нами? Напрасно хотят почтить его родством с Арминием. Будь он даже его сыном [29], а не просто племянником, – воспитанный среди наших врагов, пропитанный рабским воспитанием и чужими нравами, чего нам от него не ждать? Но если он унаследовал отцовские чувства, то никто не сражался с большей ненавистью против отечества и против пенатов германцев, чем его отец».
Этими речами они возбудили умы и собрали большие силы. Италь, со своей стороны, имел значительную партию, и его друзья утверждали, что он пришел к власти не насилием, а был призван по выбору народа. «Он, – говорили они, – обладает преимуществом знатного происхождения: испытайте его доблесть и убедитесь, достоин ли он Арминия, своего дяди, и Катумера, своего деда. Ему даже нет причины стыдиться своего отца. Флавий вступил в союз с римлянами с согласия всех своих соплеменников. Разве можно винить его за то, что он не захотел нарушить свои обязательства? Напрасно безумцы громко кричат о свободе, тогда как сами, низкие и презренные в своем личном поведении, вредящие общему благу, питают надежды лишь в раздорах».
Обе стороны сошлись в битве, и царь одержал победу в жестоком сражении. Но удача его испортила. Он предался гордыне и жестокости; изгнанный своими же, восстановленный с помощью оружия лангобардов, он стал в равной степени бедствием для херусков как в дни своего процветания, так и в дни своих неудач.
Римляне не вмешивались в эти волнения и, следуя политике Тиберия, оставили херусков их раздорам. Однако они не могли игнорировать набеги, которые совершали канги в Нижней Германии. Эти племена ободрились известием о смерти Санквиния Максима, оставившего легионы на Нижнем Рейне без начальника, и прислушались к уговорам Ганнаска, который, будучи канинефатом [30] по происхождению и долго служив римлянам в качестве союзника, затем покинул их и, собрав легкие суда, совершал частые нападения на побережья, населенные галлами, зная, что те богаты и изнежены долгим миром.