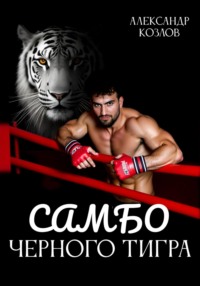Полная версия
Елена Глинская: Власть и любовь
Елена Глинская, ощущавшая себя одновременно хрупкой былинкой и несокрушимой скалой, понимала, что живет в окружении хищных аппетитов и коварных замыслов. После кончины великого князя Московского Василия III Ивановича заботу о малолетнем Иване IV взял на себя опекунский совет, состоящий из семи влиятельных бояр. Вокруг молодой вдовы сплелась паутина, сотканная из честолюбивых замыслов и жажды власти. Каждый ее жест и каждое слово оценивались врагами с единственной целью – получить преимущество в борьбе за влияние на трехлетнего государя и, следовательно, прибрать к рукам всю власть в державе.
Михаил Глинский, наделенный покойным Василием III полномочиями главного (но не единственного!) советника, оставался для нее фигурой неоднозначной, вызывавшей сложную гамму чувств. Хотя он приходился ей родным дядей и по неписаным законам обязан был оберегать и поддерживать племянницу, Елена относилась к нему с определенной долей осторожности. Она уважала его опыт и мудрость, но доверять ему всецело все-таки осторожничала, ведь в этой опасной игре за власть даже кровные узы могут оказаться ненадежными. В его хитром взгляде, в каждой фразе, выверенной до последнего слова, читалось неприкрытое честолюбие и стремление к власти. Елена наблюдала день ото дня, как сильно он хотел укрепить свое влияние в Московском великокняжестве, как мечтал навсегда закрепиться у кормила правления, превратив ее регентство в плацдарм для достижения личных целей. Его советы, зачастую продиктованные корыстью и желанием манипулировать ситуацией в свою пользу, великая княгиня принимала с особой осторожностью: старалась отделить зерна истины от плевел лжи и интриг. Довериться ему безоговорочно – значило подписать смертный приговор и себе, и своему сыну, и всей державе, которой она сейчас правила.
Ночью, когда дети засыпали, а шумные придворные страсти утихали, Елена оставалась наедине со своими мыслями. Она задавалась вопросом, достаточно ли у нее сил, чтобы справиться с возложенной на нее ответственностью и защитить себя и своего сына от надвигающейся угрозы. В ответ на эти сомнения в сердце великой княгини рождалась непоколебимая решимость, подкрепленная клятвой, данной в тишине ночи.
Эта клятва стала для нее священной.
Холодный воздух просачивался сквозь неплотно закрытую раму, словно вторя ледяному страху, сковавшему ее сердце. Она смотрела в окно, спиной к Михаилу Глинскому, но кожей чувствовала на себе его пристальный взгляд.
– Елена, – произнес он мягко, почти ласково, – зачем терзаешь себя напрасными мыслями, коли у тебя есть я – твоя опора?
Она медленно повернулась к нему, в ее глазах плескалась буря: горечь, страх, недоверие.
– Опора? Это ты, Михаил Львович, называешь себя моей опорой – после всего, что произошло?
«Ах, змеюка же ты подколодная, – Глинский сузил глаза, и тень суровости промелькнула на его лице, – неужто намекаешь на перепелиное яичко с «чудесной» начинкою, кое перед кончиной откушал твой благоверный? Так, это не я, а твоя матушка измыслила, как сотворить оное ядовитое лакомство и положить в самый рот великого князя, покамест все думали, что он от крови гнилой помирает», – но, опомнившись, он тут же вернул лицу прежнее выражение участливости.
– Елена, разумею твою скорбь. Василий отошел от нас слишком рано. Но именно потому ныне не время для слабости. Печься надобно о нашем грядущем, о твоем сыне…
– О моем сыне? – перебила его Елена, ее голос дрожал от еле сдерживаемого гнева. – Сладко, как всегда, ты глаголишь о моем сыне, а я-то хорошо вижу, как жадно ты глядишь на его престол! Думаешь, я слепа? Не ведаю, как сам ты плетешь интриги, подкупаешь бояр и шепчешь им на ухо ядовитые речи?
Глинский коротко шагнул к ней, его лицо выражало искреннее оскорбление.
– Воистину, все сие творю ради тебя! Мы ведь единой кровью связаны, посему желаю тебе и моему внуку-племяннику лишь благого! Желаю я утвердить нашу власть и надежно защититься от врагов. Кому же, ежели не мне, ты сможешь доверить сие дело?
– Защитить? – великая княгиня отступила на шаг. – Не лги мне! Ты хочешь узреть меня безвольной куклой в своих руках! Не обманывай себя, Михаил Львович, будто знаешь, как меня провести, – уж кто-кто, а я-то знаю тебе цену!
Глинский тяжело вздохнул, его плечи поникли. В эту минуту он словно примерял маску обиженного благородства.
– Ох, несправедлива ты ко мне, Елена. Обвиняешь в том, чего нету. Лишь стараюсь я, как бы помочь тебе удержать бразды правления. В державе смута, бояре в любой миг предать готовы, враги у рубежей копошатся… Нужна тебе крепкая рука, надежная опора.
– О, не хитри – сильная рука! – Елена усмехнулась, в ее голосе звучала ирония вперемешку с горечью. – Ты предлагаешь мне передать тебе мою волю, мое право вершить дела? Хочешь отобрать у меня все, что осталось после Василия Ивановича: его силу, его власть, его сына!
Думный боярин остановился, оглянулся в поиске кубка с вином. Нет, правительница не пьяна, значит, изливает душу, ищет, на кого переложить свой страх, терзающий ее. На мгновение в его глазах вспыхнуло раздражение, свойственное для всех из рода Глинских, но он тут же подавил его, решив, что чревато сердить и без того разгневанную женщину.
– Не глаголь безумий, Елена Васильевна. Я никогда не причинил бы тебе вреда. А желаю, дабы ты была в безопасности, дабы сын твой возрос достойным правителем. Разве сие есть преступление?
– Преступление – покрывать властолюбивые замыслы заботой, Михаил Львович, – глухим голосом ответила молодая женщина, глядя ему прямо в глаза. – Преступление – уповать на смерть супруга моего, на скорбь мою и слабость мою для захвата власти. Я знаю, что ты не остановишься ни перед чем, дабы добиться своего. Но и я тоже не сдамся. А буду бороться и не допущу обратить меня в пешку в игре твоей подлой.
Тишина повисла в палате, тяжелая и напряженная. В глазах великой княгини горел огонь решимости, а в глазах думного боярина застыл холодный расчет. Они стояли друг против друга, как два обезумевших хищника, готовые в любой момент броситься в смертельную схватку. Что ни говори, а в жилах каждого из них кипела одна кровь!
– Вижу, не желаешь ты внять мне, Елена. Но я готов быть тебе советником, верным помощником, коли доверишься мне сполна.
– Советником? Как же! Ты хочешь стать моей тенью, дабы управлять мной, как марионеткой!
– Слишком ты подозрительна, племянница, – покачал головой боярин. – Неужто не зришь, что я лишь помочь тебе желаю?
– У твоей «помощи» всегда вкус предательства, – усмехнулась Елена. – Думаешь, здесь позабыли, как ты и твои братья уже силились захватить власть при Василии Ивановиче?
– То было давно, – Глинский побледнел, вспомнив позор своей семьи после событий 1508 года, – и тебе тогда было всего два годка. Ныне я изменился и желаю лишь добра для тебя и для державы.
– Довольно глаголить одно и то же! Изнемогла я от сих бесед. Все, уходи! – махнула она рукой.
Глинский, помедлив, зашагал к выходу. Когда за ним закрылась дверь, Елена тяжело опустилась в кресло. Ее била мелкая дрожь, а в висках стучало от напряжения.
«Что я сотворила! – подумала она, прижимая руки к груди. – Ужели я впрямь стала такой подозрительной?». Она закрыла глаза, пытаясь унять волнение. Перед глазами стоял образ дяди – его бледное лицо, сжатые в тонкую линию губы. «В одном он прав – я стала слишком осторожной. Но как иначе, когда вокруг плетутся заговоры?» Она обхватила голову руками, чувствуя, как усталость накатывает волнами.
В дверь осторожно постучали. Елена вздрогнула и подняла голову:
– Войдите, – сорвалось с ее уст безвольным вздохом.
Дверь тихонько скрипнула, и в покои великой княгини вошел Иван Телепнев-Оболенский. В его взгляде отражалось беспокойство.
– Что здесь стряслось? – спросил он. – Михаил Львович выходил отсюда в гневе.
– Повздорили мы, – устало улыбнулась Елена. – Я стала чересчур недоверчивой.
Телепнев-Оболенский присел перед ней на корточки, нежно взял ее руки в свои ладони, и Елена с облегчением вздохнула, ощутив их тепло.
– Не недоверчива ты, а осторожна. И сие – вещи разные, – сказал он, поглаживая ее руки. – В твоем положении нельзя быть беспечной.
– Но и жить в вечном страхе негоже. Боюсь я, что превращаюсь в тень самой себя
– Неправда, ты становишься мудрой правительницей, которая ведает цену предательства.
– Думаешь, что я поступаю верно?
– Уверен, ибо ты печешься не только о себе, но и о державе. А сие – главное.
Его слова немного успокоили Елену.
– Благодарствую, – она с улыбкой коснулась пальчиком его губ, – ты всегда ведаешь, как воротить мне силы. А теперь ступай, вели готовиться к вечернему совету бояр-опекунов – много дел накопилось.
Князь покорно кивнул, но не спешил уходить. На смену беспокойству в его глазах появилось лукавое выражение.
– Я ворочусь ночью, – прошептал он, целуя ей руку, – дожидайся меня, моя государыня, – и быстрым шагом направился к выходу.
Елена Глинская посмотрела ему вслед, и внутри нее разлилось приятное тепло. В нем она нашла не просто советника и помощника – он стал для нее опорой в этом сложном мире дворцовых интриг. Его присутствие дарило ей спокойствие и уверенность, позволяя на мгновение забыть о тяжести власти. В глазах князя она видела искреннюю заботу и преданность – бесценный дар для женщины, отягощенной бременем своих обязательств.
«Как же мне посчастливилось с ним, – подумала она, глядя на закрытую дверь. – Он не ищет власти ради власти, он совсем не похож на дядю».
А вместе с теплом сердце захлестнула горечь. Елена знала, что их отношения никогда не смогут перерасти во что-то большее: ответственность за государство, бремя власти и маленький сын не позволяли ей полностью отдаться чувствам. Однако даже самая сильная женщина иногда нуждается в простом женском счастье, которое для нее, великой княгини, навсегда останется недосягаемой мечтой.
Глава 4
Зеркало – кошмар ночной,
Ведьма там трясет рукой.
Свиток рвет – судьбе венец,
Сыну княжьему конец!
Птиц ужасных слышен крик –
Карлики слетелись вмиг.
Ужас и тоска вполне
Ждут Елену в этом сне.
…студеный ветер пронизывает.
Елена стоит на заснеженном кремлевском крыльце и цепенеет от холода, превращаясь в ледяную статую. В побелевших пальцах она крепко сжимает символ надежды, который стал для нее проклятием, – маленькую корону своего сына, юного Иоанна. Но вместо ожидаемого сияния самоцветов корона источает зловещую, пульсирующую кровь. Алая влага струится по ее рукам, оставляя липкий и леденящий след ужаса.
С каждой упавшей каплей перед ее глазами разверзается бездна невообразимого кошмара. Кровь превращается в скопление живых, извивающихся змей, каждая из которых не больше мизинца, но с выражением ярости, достойным обитателей ада. Змеи, будто одержимые бесами, впиваются своими крошечными, но смертоносными зубами в нежную кожу Елены. Адская боль, словно раскаленное железо, пронизывает ее насквозь, выжигая не только плоть, но и душу. Елена застывает в безмолвном ужасе, стиснув зубы до хруста, чтобы не выдать ни единого стона, ни малейшего признака слабости.
Багровое зарево, похожее на распоротое брюхо небесного чудовища, разгорается за неприступными стенами Кремля, жадно облизывая зубчатые башни языками адского пламени. Небо, еще недавно бледное и зимнее, теперь истекает кровью, отражаясь в замерзшей глади Москвы-реки и превращая ее в багровую ленту, опоясывающую город страха.
Море факелов колыхается внизу, неистовое и зловещее, будто вырвавшийся из преисподней сонм демонов. Каждый огонек – глаз, горящий ненавистью, каждая искра – частица расколотой души. Дым, густой и едкий, пропитывает воздух запахом гари и отчаяния, оседая на лицах толпы пеплом рухнувшей надежды.
Голоса, хриплые от крика и промерзшие до костей, сливаются в единый первобытный вой. В нем слышатся стоны голодающих, проклятия обездоленных, шепот безумия, рожденный в темных углах человеческой души. Этот зловещий гул проникает в мозг, под кожу, заполняя собой все пространство, лишая рассудка и воли. Кажется, сама земля дрожит под натиском этой неукротимой ярости.
Толпа, обезумевшая от горя и отчаяния, напоминает живой, пульсирующий организм, ведомый лишь инстинктом выживания и жаждой мести. В глазах – лишь отражение пляшущего пламени и звериная злоба. Лица, искаженные гримасой ненависти и жаждой возмездия, кажутся масками, надетыми самой смертью.
Эти люди движутся как одно целое, не замечая преград и сметая все на своем пути. Топот тысяч ног устрашающей поступью самой судьбы отдается гулким эхом в узких переулках. Они требуют жертвы, требуют искупления за годы страданий и унижений. Каждый крик, сорвавшийся с их пересохших губ, полон первобытной ярости и безысходности.
Их крики погребальным звоном разносятся над заснеженной Москвой и проникают в самые отдаленные уголки, вызывая леденящий душу страх. Слова, сорвавшиеся с губ обезумевшей толпы, просты и беспощадны, как приговор:
«Кровь за кровь! Смерть тиранке!»
Оторвавшись от этого жуткого зрелища, Елена всеми силами старается унять дрожь и спешит укрыться в своих покоях. Ей чудится, что за каждым углом, в каждой тени притаилось нечто зловещее, готовое в любой момент наброситься на нее, истерзать в клочья.
Она в ужасе останавливается в центре покоев и с непониманием смотрит на огромное старинное зеркало, занимающее всю стену от пола до потолка. Его поверхность, обычно отражающая свет, сейчас кажется черной, как бездна, и зловещей.
Елена невольно приближается, завороженная и испуганная одновременно. И то, что она видит в этой зловещей зеркальной глубине, повергает ее в еще больший ужас, парализует волю и разум.
В отражении она видит себя, но не такую, какая сейчас, а свою состарившуюся копию: старую, иссохшую ведьму, чья кожа похожа на пергамент, натянутый на кости. Седые, спутанные волосы свисают неровными прядями, обрамляя лицо, изрытое морщинами, словно сетью трещин на древнем надгробии. Но самое страшное – глаза. В них нет ничего человеческого, лишь горящие угли ненависти, красные от вечного пламени ада.
В костлявых руках, дрожащих от неистовой энергии, страшный двойник сжимает свиток. От пожелтевшего пергамента веет могильным холодом, который проникает под кожу и замораживает кости. Елена узнает этот документ – это родословная ее сына Иоанна, написанная красивым почерком. В нем указано его право на престол и родство с великими Рюриковичами. Каждая буква – частица будущего ее сына, его власти и судьбы.
Ведьма окидывает Елену взглядом, полным презрения, и ее губы искривляются в усмешке, обнажая жуткий частокол гнилых, почерневших зубов, словно вырванных из челюсти давно погребенного мертвеца. От ее дыхания веет могильным холодом и тошнотворным запахом разлагающейся плоти – запахом смерти, пропитавшим ее до костей.
И вот начинается ритуал осквернения.
Костлявые пальцы смыкаются на пергаменте свитка. Старая иссохшая кожа на руках натягивается, как на мумии, и трескается, обнажая сеть черных пульсирующих вен. Ведьма рвет свиток медленно, на мелкие неровные клочки, наслаждаясь действом, будто отдирая куски живой плоти.
Каждый раз, когда рвется бумага, слышится шепот, проникающий ледяными иглами в самое сердце. Шепот превращается в грозные проклятия, которые отравляют душу и лишают рассудка.
Голос старухи звучит как скрежет трущихся друг о друга костей, как предсмертный хрип повешенного, как вой ветра в пустых глазницах черепа:
«Твоя кровь – моя плата, твоя надежда – моя пища…» – шипит она, и эхо ее слов дрожит в воздухе.
«Ты не сможешь спастись, даже если будешь молиться», – добавляет она с усмешкой, и в этом звуке сквозит зловещая радость.
С каждым клочком, летящим в воздух, Елена теряет частичку надежды, и будущее ее сына становится все более туманным. Тьма проникает в ее разум ядовитым дымом, заполняя его ледяным ужасом и всепоглощающим отчаянием. В зеркале она видит своего Иоанна: свет в глазах ребенка угасает, а улыбка на его губах превращается в гримасу боли.
«Нет, не смей! – кричит Елена, падая на колени и протягивая к зеркалу руки. – Умоляю, отпусти его!»
«А-ха-ха, твои мольбы бесполезны, ты уже не сможешь его спасти!» – насмехается ведьма, отрывая очередной клочок.
Елена смотрит на нее в немом страхе. Нет, это не просто уничтожение бумаги – это ритуальное убийство судьбы; каждый клочок – частица жизни, безжалостно вырванная из ткани бытия!
Ведьма, наслаждаясь ее страданиями, продолжает свой чудовищный ритуал, приближая к неминуемой гибели. Ее глаза горят безумным огнем, отражая торжество зла, и в этом пламени Елена видит зияющую пустоту, вечную и безжалостную.
«Скоро ты поймешь, что все твои надежды – химера!» – хрипит старуха злорадно, торжествуя и упиваясь предвкушением бесконечного ужаса.
Внезапно, словно под ударом невидимого молота, зеркальная гладь покрывается сетью трещин. Они расползаются и разрастаются, углубляясь и расширяясь. Стекло вздрагивает, судорожно содрогается и вдруг взрывается с оглушительным треском, осыпая Елену градом ледяных осколков. Невыносимый холод пронизывает тело до самых костей, как будто сама смерть коснулась ее своим ледяным дыханием.
И вот из разверзшейся черной бездны, из самого нутра зеркального кошмара вырывается рой черных, склизких птиц. Их перья кажутся пропитанными тьмой, а когти скребут по воздуху, оставляя за собой невидимые царапины ужаса. Они кружатся в безумном вихре, их очертания искажаются и меняются, превращаясь в уродливые человеческие фигуры.
И вот ужас достигает своего апогея: птицы уменьшаются, сжимаются, превращаясь в злобных карликов – двойников Иоанна. Но это не просто копии – их лица искажены гримасой ненависти, а глаза горят дьявольским красным пламенем. Они с пронзительным писком и клекотом носятся вокруг Елены, и их голоса сливаются в жуткий, нечеловеческий хор, эхом отдающийся в стенах палаты.
«Ты не сможешь спасти его! Ты обречена! Поражение ждет тебя!» – каждый клекот звучит как удар ножа.
Елена кричит, закрывает лицо руками; она уже не в силах бороться с леденящим ужасом, сковавшим ее тело, с тем безумием, которое настойчиво заглядывает ей в глаза, суля нескончаемый кошмар.
Охваченная паникой, она пытается оттолкнуть их, но ее руки проходят сквозь их призрачные тела. Собрав всю свою волю, Елена кричит, полная отчаяния: «Я не позволю вам забрать его! Он – мой сын, моя надежда!» – и в ее голосе звучит сила, подкрепленная любовью ко всему, что связывает ее с Иоанном, готовностью бороться за него до конца.
С каждым словом ее страх начинает отступать, а птицы, взвиваясь кверху и истошно вопя, стремительно опадают вокруг, гулко ударяясь своими маленькими уродливыми тельцами о пол.
В сыром, пропитанном запахом тлена воздухе застывает гнетущая тишина, предвестница очередного немыслимого ужаса. Кажется, будто сама тьма, клубящаяся в углах палаты, затаила дыхание, ожидая решающего момента.
Елена делает шаг вперед, но каждый дюйм дается ей с неимоверным усилием. Холодный пот пропитывает ее одежду, липнет к коже. Внутри, в самом сердце, вспыхивает крошечная искра отчаяния, разжигая костер на время забытой ярости.
Она оглядывается и видит лица предков, застывшие в вечности на пыльных портретах. В их глазах – отражение ее судьбы, бремя, которое они передали ей по наследству вместе с родовой кровью. Кровь Глинских – кровь воинов, магов, людей, не сломленных ни голодом, ни войной, ни проклятиями. И эта кровь – ее единственное оружие против надвигающейся тьмы.
«Я – Глинская!» – выдыхает она, и голос ее, сначала дрожащий от страха, крепнет, становится гулким, наполняя затхлое пространство первобытной мощью.
Каждое слово разносится по палате пронзительным ударом колокола и пробуждает древние силы, спящие под толщей веков.
«И не убоюсь вас! Подите прочь!» – кричит Елена в слезах ярости, готовая голыми руками сразиться с невидимым врагом, и в этот момент тьма начинает медленно отступать.
Вокруг – искаженные птицы, сотканные из кошмаров и теней, корчатся в предсмертной агонии. Их оперение, словно сгнившие лохмотья, осыпается в удушливый пепел. Иссушенные клювы раскрываются в беззвучном крике, а глаза, полные безумного ужаса, лопаются, источая зловонную жижу. Вся стая превращается в клубы густого черного дыма, который, извиваясь змеями, исчезает в воздухе, оставляя после себя лишь тошнотворный запах разложения.
Зеркало, до того извергнувшее из себя множество осколков, вдруг начинает медленно восстанавливаться. Все осколки, повинуясь чьей-то воле, возвращаются на прежнее место, скрепляясь друг с другом невидимой силой. В глубине зеркала вновь отражается свет, слабый и трепещущий, но все же свет, который постепенно прогоняет тьму из древних покоев.
Елена чувствует, как к ней возвращается сила, как дух, до этого скованный ужасом, расправляет крылья. Она больше не беспомощная жертва, дрожащая перед лицом неминуемой гибели, а воин, готовый сражаться за свою жизнь и жизнь своего сына!
Но, увы, недолго длится миг триумфа.
Из самой глубины зеркала, из мрачной бездны, где отражения искажаются до неузнаваемости, раздается леденящий кровь смех. Не человеческий, а похожий на хриплый вой, наполненный злобой и презрением. Смех ведьмы, столетия назад проклявшей род Глинских, снова обрекает их на вечные страдания.
«Убогая смертная! – шипит голос, проникая в сознание Елены, отравляя ее мысли. – Думаешь, что справилась, победила? Как бы не так! Это токмо начало!»
«Замолчи, карга! Ты немощна и навек заточена в оном зеркале!» – отвечает Елена, собрав остатки сил противостоять зловещей тьме.
«Не-е-ет, твои страхи, они как пиявки будут навсегда к тебе прилипши, душу твою пить будут! Они будут расти, крепнуть, пока не согнут и не сломят твои косточки! Не убережешь ты его, нет! Сынок твой – моя добыча, никуда не денется!»
Ужас новой волной накрывает Елену, сковывая ее тело студеными объятиями. Она видит в зеркале лицо своего сына, искаженное страхом и болью. Сердце разрывается от бессилия и отчаяния.
«Я не сломлюсь, не жди, яга проклятая! – кричит она, сражаясь с собственным страхом. – Смогу уберечь своего сына от твоего проклятья, а тебя навек изведу!»
Елена произносит эти слова как заклинание и с решимостью делает шаг вперед, к зеркалу, – навстречу злу, несущему смерть…
Глава 5
Тучи над Москвой сгустились,
Власть бояре ощутили.
Шуйский с Бельским затаились,
Глинских оба не возлюбили.
Елена путь им преграждает,
Князей к трону не пускает!
На заседании Боярской думы Михаил Глинский огласил решение великой княгини о выдвижении двух кандидатур на посты главных советников при малолетнем Иоанне IV – своей и Ивана Телепнева-Оболенского. Этим заявлением Елена Глинская официально закрепила свое ближайшее окружение и определила главных помощников в управлении государством.
По Треугольной палате прокатилась волна возмущения. Столь непредвиденное решение вызвало бурю негодования среди бояр, которые обрушили на правительницу ненавистные взгляды. Многие знатные бояре убежденно считали, что право единолично влиять на государственные дела должно принадлежать именно им, представителям самых родовитых семейств.
Особенно болезненно эту ситуацию восприняли князь Василий Шуйский и боярин Семен Бельский, чье положение при дворе в последнее время заметно пошатнулось. Этих высокородных дворян возмутил сам факт рассмотрения двух кандидатур. Они опасались затяжной борьбы за власть, которая могла привести к расколу в правящих кругах. Кроме того, ни Глинский, ни Телепнев-Оболенский не могли сравниться с родовитыми московскими боярами по древности рода и богатству.
Возмущение нарастало. Бояре перешептывались между собой, бросали настороженные взгляды то на Глинского, то на Телепнева-Оболенского. Некоторые уже начинали втайне обдумывать, чью сторону занять в грядущем противостоянии, другие задумывались о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру.
Ситуация накалилась до предела. В воздухе повисло напряжение. Казалось, еще немного, и Боярская дума превратится в поле боя.
Михаил Глинский чувствовал, как тяжелая атмосфера давит на него, но старался сохранять внешнее спокойствие. Его взгляд, холодный и решительный, медленно скользил по лицам присутствующих, будто предупреждая: «Тот, кто поддержит моего соперника, станет моим врагом». А сторонники Телепнева, в свою очередь, обменивались многозначительными взглядами: «Время покажет, кто достоин высшей власти».
Елена Глинская находилась в своих покоях, откуда наблюдала за происходящим в Треугольной палате через специальное окошко, занавешенное тонкой тканью, чтобы ее не могли увидеть. Ей, как женщине, не позволялось открыто присутствовать на заседаниях, но она нашла способ находиться в курсе всех решений и влиять на них, оставаясь при этом за кулисами.