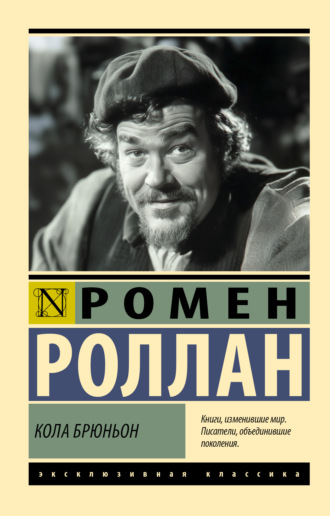
Полная версия
Кола Брюньон
Послушать этих плутов, так покажется, что Господу больше делать нечего, как уподобиться привязанному к жерновам мельницы ослу, который под ударами хлыста качает воду из реки. К тому же (и это самое невообразимое!) они ни в чем друг с другом не согласны: одному подавай дождь, другому – солнце. Они еще и святых призывают себе на подмогу! Святых, которые там, наверху помогают разверзать хляби небесные, тридцать семь. Во главе их с копьем в руках – святой Медард, великий писальщик. Противостоят ему всего лишь двое: святой Раймонд и святой Деодат – эти тучи устранят. А подсобляют им святой Блэз – ветрогонец, святой Христофор-градоборец, святой Валериан – грозглотатель, святой Аврелиан-громопрерыватель, святой Клэр-светомер. Распря творится на небесах. Все эти важные персоны награждают друг друга тумаками. А тут еще святые Сюсанна, Елена и Схоластика вцепились в волосы друг дружке. Не знает сам Господь Бог, кому бы Он помог. А коли сам Господь ничего не знает, что его кюре в том понимает? Бедный кюре!.. В общем, не мое это дело. Я тут только для того, чтобы передавать наверх просьбы умело. А каков будет ответ знает только Мировед. Я бы ничего не имел против (хотя это идолопоклонство кого хочешь разохотит… Всеблагой Христос, неужто ты умер зря?), если бы эти бездельники не вмешивали в распри небесные своего поводыря… Но взбесившись, они твердо намерены использовать меня, да и Христа в качестве оберега против всех гадов и червей, которые являются грозой их садов и полей. То у них крысы поедают зерно в сараях: им подавай крестный ход, изгнание бесов, молитву святому Никасию, а на дворе морозный декабрьский денек, снега навалило по пояс, в результате у меня прострел в пояснице… Затем гусеницы: вынь да положь им молитвы святой Гертруде, крестный ход, – это уже в марте, дождь со снегом, ледяная морось, – я простужаюсь и с тех пор кашляю… А нынче вот нашествие майских хрущей. Еще один крестный ход! Требуют, чтобы я обошел их сады и огороды (солнце нещадно печет, назревает гроза, над землей нависли тяжелые иссиня-черные тучи, похожие на огромных навозных мух, – согласись я, и вернулся бы вконец больным), распевая: «Ibi ceciderunt творящие беззаконие atque expulsi sunt и не смогут star[11]… Но изгнан-то буду я!.. Ibi cecidit[12] Шамай Батист, кюре по прозвищу Кроткий…» Нет, нет и нет, благодарю покорно! Я не тороплюсь. И для добрых шуток нужен промежуток. Неужели же мне надлежит очищать их поля от гусениц? Если майские хрущи им мешают, пусть сами маются со своими хрущами, эти лежебоки хреновы! Береженого Бог бережет. Было бы слишком просто скрестить руки на груди и повелеть кюре: «Сделай это! Сделай то!». Я буду делать то, что угодно Богу и мне самому: пить. Буду пить. И вы со мной… Что до них, пусть себе мой дом осаждают, если желают! Не стану я идти у них на поводу, друзья, и клянусь: они скорее уйдут восвояси несолоно хлебавши и задом мне салютовавши, чем я подниму свой зад из этого кресла. Так поднимем же чарки!
Утомившись от собственного красноглагольствия, он приложился к бутылке в поисках отдохновения и удовольствия. Мы также опрокинули чарки, высоко их задрав и разглядывая сквозь стекло небо и нашу судьбу, которые предстали нам в розовом цвете. На несколько минут воцарилась тишина. Слышалось только, как Пайар щелкает языком да как булькает вино, проходя по мощной вые Шамая. Он пил не отрываясь, Пайар делал небольшие глоточки. При этом Шамай издавал на выдохе звук «Ха!», закатывая глаза, когда винный поток достигал дна. Пайар разглядывал свой стакан, и так и эдак поворачивая его в руках, подставляя его солнечным лучам, перемещая в тень, принюхиваясь, втягивая в себя аромат, пил всем, чем можно, – носом, глазами, ртом. Я же упивался этой минутой, рассматривая и тех, кто пил, и то, что пили; моя радость увеличивалась как от их радости, так и от наблюдения за ними: бражничать самому и видеть, как это делают другие, скажу вам по секрету, это поистине королевское удовольствие, лучше которого нету. Я не отставал, только успевал подливать себе. Да и никто не желал плестись в хвосте, так мы и шли нога в ногу, подливая понемногу!.. А вышло так: первым достиг барьера поверенный, что принимал на грудь весьма размеренно.
После того как роса из бутылок, хранившихся в подвале, нежным бальзамом умягчила наши глотки и вернула гибкость нашим первозданным силам, души наши расправились во всю свою ширь, а лица разгладились. Облокотившись о подоконник открытого окна, мы умильно и с восторгом созерцали приход новой весны – веселое солнце, золотящее только что появившийся тополиный пух, невидимо петляющую по долине, то туда, то сюда, словно молодой игривый пес, Йонну, от которой до нас доносился стук – это колотили бельем по валькам прачки; слышалось кряканье крачки. Повеселевший Шамай, пощипывая нас за руки, говорил:
– До чего же хорошо жить в этом краю! Будь благословен Господь, который сделал так, что мы все трое появились здесь на свет! Что может быть изумительнее, упоительнее, восхитительнее, исключительнее, поразительнее, а также вкуснее, сочнее, слаще! Просто слезы на глаза навертываются, как пред алтарём. Так бы и съел его, этот край, живьём!
Мы кивали в подтверждение его слов.
– Но на кой черт Вышнему понадобилось именно в этих краях позволить расплодиться этим зверюгам? Разумеется, Он прав. Он знает, что делает, нужно думать… однако, признаюсь, я бы предпочел, чтобы Он был не прав и чтобы мои прихожане отправились к лешему или куда-нибудь еще: к инкам или Сулейман-паше, неважно, подальше от наших краев! – неожиданно изрек он.
На что мы ему отвечали:
– Шамай, да ведь повсюду люди одни и те же. Что эти, что те! Зачем менять шило на мыло?
– Вот в чем штука, – вновь завел он речь, – не для того, чтобы быть спасенными мною были созданы Господом эти лопухи, а для моего собственного спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья, нет на свете более поганого занятия, чем быть деревенским кюре, которому приходится святые истины в толоконные лбы этих мерзких дурней вбивать, соком Евангелия их самих питать и млеко вероучения в их чада вливать? У них в одно ухо влетает, из другого вылетает, их зобу и ртищу подавай более грубую пищу. Сколько бы они ни жевали ave24, не гоняли, гнусавя, из одного угла рта в другой лита́нию25, напоминающую в их исполнении богомерзкое алкание, не тянули повечерие, текст калеча, ничто, замечу, из священных слов не поступает в их глотки, жадные до вина, а не до веры основ. Ничто не усваивается этими горлопанами. До того и после остаются они язычниками рьяными. Испокон веков искореняем мы из лесов и полей их злых гениев и фей, надрываем наши легкие, стараясь загасить огни, раздутые силой нелегкой, дабы в самой темной ночи мироздания воссиял свет богопочитания, нам все равно никак не удается покончить с этими духами земли, с этими предрассудками, возникшими в безверии, с самой этой душой материи.
Старые дубовые пни, черные поворотные камни по-прежнему хранят в себе сатанинское исчадие. Сколькие из них мы уже раскололи, обтесали, распилили, выкорчевали, сожгли! Надобно перевернуть всю землю нашей матушки Галлии, каждый ее клочок, каждый камень, чтобы окончательно вырвать бесов из ее тулова. Да куда там! Все одно не получится. Окаянная природа проскальзывает у нас между пальцами: вы ей отрезаете ноги, у нее вырастают крылья. На месте каждого убитого божка, глядь, десять новых встояка. Все-то у них божок, все-то у них анчутка у этих тупоумных. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы и в черную курицу, в огромного человечьего змея, в гнома Фульто26 и в утку-ворожею… Скажите мне на милость, как будет выглядеть среди всех этих то безголовых, то о трех головах чудищ, которые попали на Ноев ковчег, кроткий сын Марии и набожного плотника, Богочеловек!
На что Монс Пайар ответствовал:
– Кум, в чужом глазу соломину увидать, в своем – бревна не замечать. Прихожане твои сумасбродны, что верно, то верно. А ты сам намного ли умнее? Уж лучше бы ты молчал, ведь ты во всем им подобен. Стоят ли больше твои святые в сравнении с их домовыми и феями?.. Мало того что у тебя один Бог в трех ипостасях, то есть Святая Троица, да еще непорочная мать, так еще пришлось наполнить твой Пантеон кучей малых божков в штанах и юбках, этих фетишей, призванных заменить уничтоженных и заполнить пустые ниши. Но ведь эти боги – ей-богу! – не сто́ят прежних. Неизвестно, откуда они взялись; повылазили отовсюду, как слизняки, и все такие убогие, нескладные, покалеченные, грязные, в язвах и шишках, изъеденные вшами и червями: один выставил напоказ кровоточащую култышку и демонстрирует истекающую ядом язву на бедре, другой носит кокетливо воткнутый в голову топор, третий разгуливает с собственной отсеченной головой под мышкой, еще один победно размахивает собственной кожей, словно рубашкой. Да вот хотя бы, незачем далеко ходить, что ты скажешь, кюре, о святом, что царит посреди твоей церкви – Симеоне Столпнике, том, что сорок лет проторчал на одной ноге на верху столпа, словно цапля?
Тут Шамая словно кто ножом пырнул, так он подскочил.
– Замолчи! – закричал он. – Ну ладно другие святые! Я не подписывался их защищать. Но этот, он мой, язычник ты этакий, я нахожусь в его доме. Дружище, будь повежливей!
– Ладно, я твой гость, бог с ней, с твоей болотной птицей, но скажи-ка ты мне, что ты думаешь об аббате из Корбиньи, который заявляет, будто у него в бутылке молоко Пресвятой Богородицы, или о господине де Сермизеле, который как-то раз, когда у него случился понос, приготовил клистир из святой воды и праха мощей?
– Что я об этом думаю? – отвечал Шамай. – А вот что: ты, высмеивающий Сермизеля, и сам, может быть, последовал бы его примеру, если бы захворал таким же недугом. Что до аббата из Корбиньи, вот мое мнение: все эти монахи, будь на то их воля, с целью отбить у нас покупателей, открыли бы лавки и торговали молоком архангелов, притирками ангелов и маслом серафимов. Не говори о них! Кюре с монахом как кошка с собакой.
– Что ж это получается, кюре, ты не веришь в реликвии?
– В их реликвии не верю, зато верю в свои. У меня хранится плечевой отросток лопатки святой Уринии: осветляет мочу и кожу лица у страждущих лишаём. А еще квадратное темя святого Конопатия – хорошо выгоняет бесов из желудков баранов… Прошу тебя, перестань смеяться! Все зубоскалишь, нечестивец? Верно я понимаю, ни во что-то ты не веришь? У меня имеются грамоты (сомневающиеся в том, – глупцы!) на пергаментах, с подписями. Пойду схожу за ними. Ты своими глазами убедишься в их подлинности.
– Да сиди уж, оставь бумаги. Ты и сам в них не веришь, вон нос у тебя шевелится… Кость, чьей бы она ни была, откуда бы ни поступила к нам, всегда будет только костью и ничем иным, а почитающий ее – идолопоклонником. Всему свое место: место мертвецов на кладбище! Я верю в живых, верю в то, что сейчас разгар дня, что я пью и рассуждаю, притом неплохо, что два и два четыре, что земля – неподвижное светило, затерянное во вращающемся пространстве. Верю в Ги Кокиля27 и могу тебе наизусть прочесть, если хочешь, с начала до конца сборник «Обычаев нашего края». Верю я и в книги, в которые капля по капле проникают научные изыскания человека и его опыт. А более всего прочего верю в свой здравый смысл и разум. Ну и, само собой, верю в Священное Писание. Да и кто из считающих себя осмотрительным и благоразумным станет подвергать его сомнению. Ну что, кюре, доволен?
– Нет, я не считаю себя довольным, – вскричал мой добрый Шамай, не на шутку рассердившись. – Так ты, значит, кальвинист, еретик, гугенот, бормочущий себе под нос Библию, злой на свою мать-церковь и думающий (гадючье отродье!), что может обойтись без духовного наставника?
Тут уж всерьез разобиделся Пайар, он принялся возражать: мол, он не позволит, чтобы его называли протестантом, потому как он настоящий француз, правоверный католик, но в то же время человек здравомыслящий, у которого мозги на месте и руки растут откуда надо; человек, которому не нужны очки, чтобы при свете дня видеть, что к чему; человек, называющий глупца глупцом, а Шамая трижды глупцом, или глупцом в трех лицах (как тому заблагорассудится); человек, который понимает: Бога прославлять – Его разум величать, разум подобен алмазу в короне великого светоча.
Они замолчали и снова стали пить, ворча и дуясь, повернувшись друг к другу спинами, притом что сидели за одним столом. Я же покатывался со смеху. Тут только до них дошло, что все то время, пока они спорили, я молчал; я и сам только теперь это заметил. До этой минуты я был занят тем, что смотрел на них, слушал, посмеивался над их доводами, передразнивал их лицом, тихо повторяя за ними слова, двигая губами и напоминая тем кролика, жующего капусту. Оба остервенелых спорщика потребовали от меня признания: с кем из них я. И вот что я им на то ответил:
– С обоими и еще кое с кем. Мало ли охотников поспорить? Чем больше мы колобродим, тем смешнее, а чем смешнее, тем разумнее… Кумовья, когда вы желаете знать, чем владеете, вы заносите на бумагу все цифры, затем складываете. Почему бы вам не сложить обе ваши причуды? Как знать, может, вместе они и составят истину. Истина показывает вам кукиш, когда вам хочется прибрать ее к рукам. Мир не однозначен, детки: каждое объяснение односторонне. Я на стороне всех ваших богов, как языческих, так и христианских, а сверх того за бога, именуемого разумом.
При этих словах оба они в сердцах объединились против меня, назвав меня пирроником28 и атеистом.
– Атеист! А чего ж вам еще от меня нужно? Ваш Бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы хотят навестить меня? Милости прошу! Я их приму. Я всех принимаю, я человек гостеприимный. Боженька мне очень нравится, а его святые еще больше. Я их люблю, почитаю, я им приветливо улыбаюсь; поскольку они люди добрые, то не отказывают мне в удовольствии поболтать с ними. Но скажу вам честно, одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я люблю поесть… а меня сажают на диету! У меня есть свои святые мужи и девы, свои феи и духи воздуха, земли, деревьев и воды, те, которых я предпочитаю другим; еще я верю в разум; а еще в безумцев, прозревающих истину, да и в колдунов тоже. Мне по нраву думать, что подвешенная в небе земля качается в облаках, я хотел бы завести искусно сработанный механизм мировых часов, разобрать его, покопаться в нем, а потом снова собрать. Но это не значит, что мне не доставляет удовольствия слушать, как стрекочут небесные сверчки, смотреть, как мигают своими круглыми глазами звезды в вышине, затаив дыхание поджидать появления старичка с вязанкой за спиной на луне… Вы пожимаете плечами? Вы стоите на страже порядка. Что ж, порядок чего-то да стоит! Но даром он не дается, за него приходится платить. Порядок означает не делать того, что хочется делать, и делать то, чего не хочется. Это все равно как лишить себя одного глаза, чтобы лучше видеть другим. Или вырубать леса, чтобы проложить большие прямые дороги. Это удобно… так, да не так, и, господи, до чего же это убого! Я старый галл и знаю: начальников над нами, что ворон, законы жмут со всех сторон, мы братья все, но каждый по себе. Верь или не верь, как хочешь, но позволь и мне верить или не верить. Уважай разум. А главное, дружище, не касайся богов! Они кишмя кишат, проливаются на нас дождем сверху, ими захлестывает нас снизу, они повсюду, под нашими ногами, перед нашими носами, мир ими переполнен, как супоросная свинья. Я их всех почитаю. И разрешаю вам и других ко мне подтаскивать. Но запрещаю вам лишать меня хоть одного из них, заставлять меня отправлять хоть одного из них на покой, если только сам ловкач не слишком злоупотребит моей доверчивостью.
Сжалившись надо мной, Пайар с кюре поинтересовались, как мне удалось найти свой путь во всей этой сумятице.
– Легко, – отвечал я, – мне знакомы все тропки-дорожки, без всяких затруднений гуляю я по ним. Когда я один иду по лесу из Шаму в Везле, думаете, мне нужна широкая проезжая дорога? Я следую с закрытыми глазами браконьерскими тропами и, если и прихожу последним, то не с пустыми руками. Все в моем ягташе разложено по своим местам, на все наклеены бирки: Боженька в церкви, святые в своих часовнях, феи в лугах, разум в мозгах. И все друг с другом живут в ладу: у каждого своя дружка-подружка, своя заботушка и своя хибарка. Они не подчинены деспоту-королю, но, подобно господам из Берна и их конфедератам, вступают в союзы с другими кантонами. Иные посильнее, иные послабее. А все же обманываться не стоит! Порой нуждаешься в слабых в битве против сильных. Что и говорить, Бог сильнее фей. А все-таки и Ему не мешает обращаться с ними поаккуратнее. И Господь, когда Он один, не сильнее всех вместе взятых. На сильного всегда найдется кто-то посильнее, который его сгрызет. Сила силу ломит. Так-то вот. Никто не разубедит меня, знаете ли, в том, что того самого-самого Бога никто пока еще не видал. Он от нас далеко-далеко, отсюда не видать, где-то там, в глубине небес. Точь-в-точь как его величество наш король. Нам знакомы (и даже слишком) его люди: интенданты, лейтенанты. Но сам он, как сидел, так и сидит в своем Лувре. Сегодняшний боженька, тот, которого все о чем-то молят, это навроде господина де Кончини…29 Шамай, не набрасывайся на меня! Чтобы ты не обижался, скажу так: наш боженька – не он, а добрейший герцог господин де Невер. Да благословит его небо! Я его почитаю и люблю. Но перед сиром из Лувра он ведет себя тихохонько и правильно делает. Да будет так!
– Да будет так! – подхватил Пайар, – однако все не так. Увы! Далеко не так! Тогда узнаешь челядина, когда дом без господина. С тех пор как скончался наш Генрих и королевство перешло под женское управление30, принцы поигрывают с прялочкой-государством и с самой пряхой. Господские забавы лишь им одним по нраву. Только пусти козла в огород, вот и эти разбойники – опустошили казну и лишили нас будущих побед, зависевших от содержимого арсенала, охраняемого господином де Сюлли31. Да приидет мститель, да заставит их изрыгнуть собственные головы со всем тем златом, которое они заглотнули!
Тут всех как прорвало и высказано было больше, чем следовало из соображений безопасности, но что делать: пели мы хором, и эта песня выходила у нас, как никакая другая, на диво ладно. Прозвучало и несколько вариаций на тему напомаженных принцев, живущих в свое удовольствие святош, жирных прелатов и бездельников монахов. Должен заметить, в исполнении Шамая этот сюжет получил блестящее воплощение. Наше трио продолжило петь в унисон и тогда, когда мы сменили тему, и после всех тех, у которых на языке медок, а на сердце ледок, после свят-свят-святов перешли на фанатиков всех мастей – гугенотов, изворотов-искариотов, доброхотов-идиотов, которые заявляют, что любовь к Богу нужно прививать непременно с помощью мечей или дубин! Но ведь Господь не погоняла какой-нибудь, чтобы стегать нас вдоль спин! Кто желает обречь себя на муки загробные, это его дело! Но неужто и при жизни еще нужно, чтобы нагорело? Благодарим покорно, оставьте нас в покое! Пусть в нашей Франции каждый живет как может и дает жить другим! Самый нечестивый – и тот христианин, поскольку Христос принял смерть за всех людей. И потом, худший и лучший, в конечном счете, – оба ничтожные твари: жестоки́ вы иль добры́ – вы как две капли воды.
Утомившись от говорения, мы принялись на три голоса исполнять песнопения в честь Бахуса, единственного из богов, по поводу которого у нас не было разногласий. Шамай довольно громко заявлял, что предпочитает Бахуса всем другим богам, о которых на проповедях ведут речь подлые монахи Лютера и Кальвина и другие проповедники-ничтожества. А Бахус – это бог, которого вполне можно признать, он хорошего происхождения (из французов… ой, что это я? из христиан) и достоин всяческого уважения, да разве Христос не представлен на некоторых старых полотнах в виде Бахуса, попирающего ногами гроздья винограда? Так выпьем же, други, за нашего Искупителя, нашего христианского Бахуса, нашего веселого Иисуса, чья благородная алая кровь течет по нашим холмам и наполняет благоуханием наши виноградники, наши языки и наши души и изливает свой милостивый, человечный, щедрый и незлобиво-насмешливый дух на нашу светлую Францию… за здравый смысл, за добрую кровь!
В разгар нашего разговора, когда мы чокались, поднимая чарки в честь здравого французского смысла, который подсмеивается над любыми крайностями (Мудрец непременно сядет меж двух стульев… и нередко угодит прямо на землю), раздались грохот захлопываемых спешно дверей и топот тяжелых шагов по лестнице, послышались призывы к Христу, Иосифу и «Аве!» вкупе с задавленными вздохами, что возвестило нам о неминуемом появлении Элоизы Кюре, как здесь называли домоправительницу хозяина дома, или просто Кюрейши. Она вытирала свое широкое лицо концом фартука.
– Уф! Ох! На помощь, господин кюре! – запыхавшись, воскликнула она.
– А, это ты, толстуха! Что еще? – откликнулся он нетерпеливо.
– Они уже тут! Это они!
– Кто они? Гусеницы, совершающие процессию исхода с полей? Я тебе уже сказал: больше ни слова об этих язычниках, моих прихожанах!
– Они вам угрожают!
– Мне уже смешно. Чем же это? Разбирательством в присутствии духовного судьи? Пусть их! Я готов.
– Ох, сударь вы мой, если бы только разбирательством!
– А чем же еще? Говори!
– Они там, внизу, собрались у Верзилы Пика, чертят всякие кабалистические знаки, занимаются каким-то экзоршизмусом и распевают: «Эй, житники и майские хрущи, алле, алле, алле, из поля прямо в сад и погребок кюре!»
– Окаянные! В мой сад своих хрущей! В мои погреба своих полевок… Убили! Зарезали!! Не знают, что и придумать! О Господи, о святой Симон, придите на помощь своему наместнику на земле!
Ох и посмеялись же мы, пытаясь успокоить его!
– Смейтесь! Смейтесь! – бросил он нам. – Будь вы на моем месте, мои распрекрасные умники, вы бы так не веселились. Эх! Черт побери! Я бы тоже на вашем месте смеялся: куда как хорошо! Хотел бы я посмотреть, как бы вы восприняли такую новость и стали готовить и стол, и дом со всеми его чуланами, амбарами, закомарами для подобных постояльцев! Их хрущи у меня в доме! Б-р-р!.. Их житники! Фу! Мерзость! Да тут с ума спрыгнешь!
– Что ж ты так убиваешься? Нешто ты не кюре? Чего испугался? Примени к ним этот твой экзорцизм! Да ты раз в двадцать ученее их, разве не так?
– Хе-хе! Не уверен. Верзила Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ох, мои дорогие! Ну и новость! Ну и бандиты!.. А я-то почивал себе на лаврах, был так доверчив! Ни на что нельзя положиться! Только на величие Господа. Что я могу? Я в осаде. Они меня поймали и удерживают… Элоиза, милая моя, беги, скажи им, чтоб остановились! Я уже иду, ничего не поделаешь! Ах, разбойники! Ну что ж, настанет и мой черед, когда призовут меня к их смертному одру, уж тогда-то я отыграюсь… Fiat voluntas[13]. А пока мне приходится подчиниться их воли!.. Приходится испить сию чашу до дна. Я сделаю это. Уж сколько я их испил!.. – Он встал.
– Куда ты? – спросили мы.
– В крестовый поход против хрущей и мышей-полевок.
IV
Празднолюбец, или один день весны
Апрель
Девочка по имени Апрель, изящная дочка весны, худенькая, с обворожительными глазами, я вижу, как наливаются твои грудки на ветке абрикосового дерева: белая ветка с розоватыми острыми почками в саду под моим окном обласкана солнцем свежего утра. Что за утро! Какое счастье думать, что увидишь, что уже видишь этот день! Я встаю, потягиваюсь и чувствую, как ноют мои немолодые руки, разбитые многочасовым трудом. Две последние недели, желая нагнать упущенное из-за вынужденного простоя время, я и подмастерья моей артели на славу построгали, так что только стружки летели, слава богу, рубанок не отвык, знай выводил себе арию: вжик-вжик. Вот только наш голод по работе превосходит аппетит клиентов. Продажи замерли, и уж тем более никто не торопится оплатить заказанное; кошельки истощены, обескровлены, зато кровь струится по нашим жилам, заставляя наши руки работать, и наши поля полны живительной влаги: земля, из которой я сотворен и на которой я живу (она одна и та же), чудо как хороша. «Ara, ora et labora[14] 32. Станешь королем». Все кламсийцы – уже короли или будут королями, да, черт побери! С самого утра до моего слуха доносится: тук, дзинь, бам, бум, это и мельничный шум, и скрип раздуваемых кузнечных мехов, и пляшущий перестук молотков, и грохот крошащих кости резаков, и у водопоя лошадиное фырканье, и песня сапожника и забиваемых им гвоздей цвирканье, и бичей вжиканье, и сабо по дороге шмыганье, и тележных колес гаканье, и чье-то балаканье, и гомон голосов, и звон колоколов, словом, дыхание города-трудяги, который пыхтит, кряхтит, надсаживается, да при том и обихаживается. «Pater noster[15], замешиваем ежедневно мы panem nostrum[16] 33, – звучит молитвенно-напевно, – в ожидании, когда ты нам его дашь: подстраховываемся на всякий случай, уж ты нас уважь…». Над моей головой – безоблачное небо укутанной в голубую дымку весны, горячее солнце, свежий воздух и белые облака-бегуны, которые гонит прочь пролетный ветерок-шалун. Да неужто новый канун?! Молодость возвращается! Так и есть, из прошлого летит она ко мне во всю прыть, заново отстраивая свой ласточкин приют под кровелькой моего старого сердца, где ее ждут. Прекрасная бегляночка как же ты дорога, когда возвращаешься! Еще дороже, чем в те далекие года…






