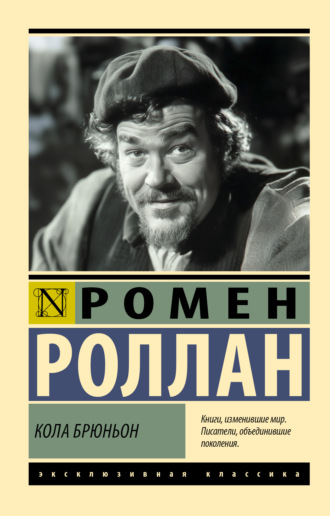
Полная версия
Кола Брюньон
Когда мы вдоволь наорались, пришлось действовать (отдыхаешь, взявшись за дело, коль трепаться надоело). Ни нам, ни им того вовсе не хотелось. Их попытка застать нас врасплох ни к чему не привела, мы не ввязались в бой, отсидевшись в укрытии, а лазать по стенам у них не было ни малейшего желания, да и то верно, кому охота ломать себе кости. Однако же, хочешь не хочешь, а нужно было показать, что воюешь. Ну, пошумели, постреляли, поизрасходовали пороха, а как же? И что? Да, ничего, никто не пострадал, разве пара-тройка воробьев. Прислонившись спиной к стене, сидели мы себе, ожидая, когда перестанут лететь пули с той стороны, а затем выпустили свои, но не пристреливаясь, так, наобум, да и то сказать, к чему подставляться. Выглянуть отваживались, только когда слышались вопли пленников, тех набралось с дюжину, – женщин и мужчин Бейана – все они были выстроены, но не лицом, а задом к нам и подвергались ударам пониже спины. Вопили они благим матом, хоть больно им было не особо. А чтобы отомстить, мы предприняли вот что: хорошенько прячась, стали дефилировать вдоль наших куртин, потрясая над стенами, так чтоб было видно с той стороны, нанизанными на пики окороками, сервелатами и кровяными колбасами. Ответом нам было рычание, в котором слышались ярость и недюжинный аппетит осаждающих. Мы же возликовали, как от доброго вина, а чтобы не потерять ни капли (уж коль затеял шутку, так косточку-то обглодай!), с наступлением вечера удобно расположились под ясным небом на склонах под защитою стен, разложили на столах снедь, расставили бутыли и с шумом и треском стали пировать, распевая песни и чокаясь за здоровье Масленицы. По ту сторону стен все враги от такой наглости чуть не передохли. Так мило, без особого ущерба для себя провели мы этот денек. Если не считать случая, приключившегося с одним из наших – толстяком Гёно де Пуссо: вздумалось ему побесить неприятеля, и он, в дымину пьяный, стал назло врагу расхаживать по стене с чаркой в руке, а тот, завидя сей демарш, его чарку-то вместе с его мозгами и превратил в фарш. Мы в ответ тоже одного или двоих изувечили. Но это никак не повлияло на наше настроение. Как известно, лес рубят, щепки летят.
Шамай дожидался ночи, чтобы выбраться из города и отправиться восвояси. Как ни уговаривали мы его:
– Дружище, ты слишком рискуешь. Дождись, когда все закончится. Господь сам займется твоими прихожанами.
Он отвечал:
– Место мое среди овец моей паствы. Я – рука Господа, и, ежели я поступлю неправедно, Господь останется одноруким. Клянусь, я не допущу этого.
– Верю, верю, – отвечал я, – ты уж это доказал, когда гугеноты осадили твою колокольню и ты здоровенным камнем уложил на месте их капитана Папифага.
– Как же он удивился, этот нехристь! Не менее моего. Я добрый человек, мне не по себе делается от вида крови. Это премерзко. Одному дьяволу ведомо, что творится в мозгу, когда ты находишься среди безумцев! С волками жить, по-волчьи выть.
– И то верно, в толпе теряешь всякий разум. От ста мудрецов родится тетеря, а сто баранов породят зверя… Но скажи-ка ты мне, кюре, как, по-твоему, можно согласить две морали: мораль человека, живущего наедине со своей совестью, которому нужен мир для себя и других, и мораль военных, мораль государств, превращающих войну и преступления в добродетель? Которая из них от Бога?
– Хороший вопрос, черт возьми!.. Да обе. Все от Бога.
– Ну, в таком случае Он сам не знает чего хочет. А все же, сдается мне, что хоть Он знает, да не может. С отдельным человеком Ему не надо тужиться – легко заставить себя слушаться. А коли перед Ним целое сборище людей – поди с ними со всеми управься. Что может сделать один против многих? Так что человек пригвожден к земле-матушке с ее плотоядным инстинктом… Помнишь местное поверье о людях, которые в какие-то дни бывали волками, а потом возвращались в свое человеческое обличье? В наших местных преданиях больше толку, чем в твоем служебнике, дорогой кюре. В государстве всякий облачается в волчью шкуру. Как ни рядятся государства, короли, их министры в пасторские одежды, как ни заявляют разные плуты, что они родня великого Пастыря – того самого, от имени которого говоришь ты, все они – рыси, быки, пасти и животы ненасытные. А зачем? Чтобы накормить ненаедное брюхо земли.
– Эк тебя занесло, язычник! – отвечал Шамай. – Волки от Бога, как и все остальное. Все, что Им сотворено, сотворено для нашего блага. Разве ты не знаешь, говорят, что именно Иисус породил волка, чтобы тот защищал капусту, росшую в огороде Пресвятой Девы Марии, Его матери, от коз и козлят? И правильно сделал. Склоним пред Ним свои головы. Мы то и дело жалуемся на сильных мира сего. Однако, друг мой, если б неимущие стали королями, было бы еще хуже. Отсюда вывод: все хорошо, все на пользу – и волки, и овцы; овцы нуждаются в волках, чтоб те их стерегли, а волки в овцах, чтобы есть могли… А засим, друг Кола, отправлюсь-ка я стеречь свою капусту.
И сутану засучив, свою палку подхватив, он отправился в ночи, мне Мадлонку поручив. Ночь была безлунной.
На следующий и в последующие дни все было не так весело, как началось. По глупости своей, из бахвальства мы в первый вечер набили себе животы и обожрались так, что дышать не могли. Так как запасы пищи наши сильно поубавились, пришлось затянуть потуже пояса и ремни, что мы и сделали. Но мы все еще демонстрировали, что как сыр в масле катаемся. Когда кровянка закончилась, мы изготовили другую, начинив кишки отрубями, веревкой, вымоченной в дегте, и, подняв ее на палки над стенами, носили туда-сюда у неприятеля под носом. Но бестия-противник раскрыл секрет. Пуля, пущенная с той стороны, попала в одну из колбас, да не как-нибудь по касательной, а прямо в середку. И кому из нас стало смешно? Как вы думаете? Уж точно, не нам. А чтобы совсем прикончить наш дух, эти разбойники, увидев, что мы прямо с крепостной стены ловим в речке рыбу на удочку, придумали поставить у шлюзов, выше и ниже по течению, большие сети, чтобы перехватывать то, что должно было пойти у нас на жарку. Напрасно настоятель нашей церкви заклинал этих дурных христиан позволить нам поститься. Ну словом, за отсутствием постной пищи пришлось питаться запасами собственного сала.
Разумеется, мы могли воззвать к помощи господина де Невера. Но правду сказать, мы не торопились снова брать на себя содержание его войска. Неприятель, на вас навалившийся, обходится дешевле, чем друг, в доме поселившийся. Потому, покуда можно было справиться с невзгодой без солдат сюзерена, мы помалкивали, так-то было лучше. Да и враг, со своей стороны, вел себя довольно тактично и тоже не стал звать его. И мы, и они предпочли договориться без третьего лишнего. И не спеша приступили к прелиминариям19. А тем временем в обоих станах велась благоразумная жизнь: ложились рано, вставали поздно, и весь день играли в шары, в «пробку», зевая скорее со скуки, чем от голода; не выходя из состояния вялого, мы и постясь набирали весу немалого. Старались поменьше двигаться. Не то дети, их не удержишь. Ребятня на то и ребятня, чтобы бегать как угорелая, визжать, смеяться, сновать туда-сюда, не переставая подставлять себя под пули врага, лазать по стенам, показывая неприятелю язык; целая артиллерия была изготовлена ею для того, чтобы досаждать противнику, бомбардируя его камнями, трубочками из бузины, маленькими пращами, распиленными вдоль палочками… получай! а вот этого не хочешь? а как тебе понравится это?.. и все-то им было смешно до колик, нашим обезьянкам! А побиваемые клялись их изничтожить. Нам крикнули, что первый из шалунов, который покажет свой нос из-за стен, будет убит. Мы пообещали не спускать с них глаз, но как мы ни таскали их за уши, как ни выговаривали им, они проскальзывали у нас сквозь пальцы. А самым ужасным (я до сих пор еще дрожу) было то, что одним прекрасным вечером я услышал крик: Глоди! (Не может быть! Кто бы мог подумать!) Этот тихий омут, эта недотрога, шалунья! золотце мое!.. спрыгнула с откоса в ров… Боженька, высечь бы ее!.. Один прыжок, и я был на стене. Мы все смотрели вниз… Захоти враг уложить нас всех на месте, лучшего момента не придумаешь; но, как и мы, он не сводил глаз с моей драгоценной крохотки, которая (будь благословенна святая Дева!), словно котенок, скатилась вниз, ничуть не испугавшись, уселась на травке посреди цветов, и, задрав голову к тем, кто с двух сторон взирал на нее, она улыбалась им и как ни в чем не бывало собирала букет. Все улыбались ей в ответ. Монсеньор де Раньи, командующий неприятельской армией, запретил причинять ребенку хоть малейшее зло и даже, заботясь о своей душе, бросил ей коробочку драже.
Но пока все взоры были прикованы к Глоди, Мартина (ох уж эти мне женщины!), чтобы спасти свою овечку, принялась спускаться по склону, то бегом, то ползком, то кувырком, с задранной до ушей юбкой, гордо выставив напоказ осаждающим и свой восток, и свой запад, и оба полушария, и все четыре стороны небосклона, и обратную сторону своего гербария. Успех был оглушительный. Она же, нисколько не смутившись, схватила Глоди, расцеловала ее и отшлепала.
Ослепнув от ее прелестных начал, отмахнувшись от своего капитана, один солдат-ухарь спрыгнул в ров и бегом кинулся к ней. Она дождалась его. Мы бросили ей метлу. Она бесстрашно пошла на врага и так его отдубасила – хлысть-хрясть, вот тебе, бац-бац, – что он почел – ой, мама! – за лучшее ретироваться, наша взяла, братцы, гремите, трубы и горны, победа наша бесспорна! Посреди всеобщего гогота в обоих станах победительницу с ребенком на руках подцепили, и я, гордый, как павлин, стал тянуть веревку, на конце которой болталась моя бесстрашная воительница с задранной юбкой, являвшая неприятелю свой экватор.
Еще неделю длилась говорильня. (Был бы повод, болтун что овод.) Ложный слух о приближении войска господина де Невера, наконец, привел нас к обоюдному согласию, было принято решение, в общем-то, не слишком обременительное для нас: мы обещались отдать везлейцам десятую часть от будущего сбора винограда. Обещать-то обещай, да из виду не теряй – бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Откуда нам знать, каким будет урожай, еще столько утечет воды, а вина и подавно в наши животы.
Была достигнута полная сатисфакция друг другом с обеих сторон, а собою и того паче. Но пришла беда – отворяй ворота. Именно в ту ночь, что последовала за заключением перемирия, на небе появилось знамение. Часам к десяти из-за Самбера, где оно затаилось, оно выкатилось на лужайку небосклона и протянулось в виде змеи в сторону Сен-Пьер-дю-Мона. Оно было похоже на меч, острие которого представляло собой факел, выпускающий дымящиеся языки. Меч этот держала чья-то рука, пять пальцев которой оканчивались вопящими головами. На безымянном пальце можно было разглядеть женскую головку с развевающимися по ветру волосами. Ширина меча была: у рукояти – с пядень, у острия – от семи до восьми линий дюйма[6], у середины меча – два дюйма и три линии[7].
А цвета оно было фиолетово-кровавого и каким-то распухшим, как рана в боку. Все, задрав головы и раскрыв рты, смотрели в небо; слышалось, как от страха клацают зубы. В обоих станах задавались вопросом, кому предназначено сие знамение. И мы, и они не сомневались, что оно предназначено противоположной стороне. Но мурашки бегали по телу у всех. У всех, кроме меня. Мне ничуть не было страшно. Надобно признаться, я ничего не видел, потому как ровно в девять завалился спать. Я ведь следую указаниям месяцеслова, а в нем на эту дату указано: в такое-то время принять лекарство, где бы ты ни находился; ну я его принял и лег; уж если в месяцеслове написано что-то, то уж будьте покойны, где бы я ни был, я беспрекословно подчинюсь, ведь это заповедано Евангелием. О знамении мне рассказали, а это все равно что видеть его своими глазами. Я все записал.
Покончивши с подписанием мира, друзья и недруги вместе взялись за подготовку пира. А тут как раз подошло преполовение поста20, ну мы и приостановили голодовку. Из окрестных деревень к нам стали стекаться, дабы отпраздновать наше освобождение, как едоки, так и съестные припасы. Денек выдался на славу. Столы тянулись во всю длину вала. Приготовлено было: три вепренка, зажаренных целиком и начиненных рубленным мясом с добавлением кабаньих потрохов и печени цапли; душистые окорока, прокопченные в очаге на можжевеловых веточках; заячьи и свиные паштеты, благоухающие чесноком и лаврушкой; сосиски из потрохов и просто потроха; щуки и улитки; рубцы; черные рагу из заячьего мяса, которые пьянили вас еще до того, как вы их отведали; телячьи головы, тающие на языке; огненные купы проперченных раков, – от них в горле загорался пожар, притушить который были призваны салаты из политого уксусом лука-шалота и целый арсенал вин из местечек Шапот, Мандр, Вофийу; а на десерт – прохладная простокваша со сгустками, разминаемыми челюстями между языком и небом, и печенья, которые единым махом, как губка, впитывали в себя содержимое чарок.
Ни один из нас не сдался, пока оставалось еще хоть что-то, чем можно было набить утробу. Будь благословен Господь, который дал нам возможность в столь небольшой по объему желудок вмещать столько яств и пития. Было на что посмотреть, когда затеяли соревнование – у кого больше вместит брюхо: отшельник из Сен-Мартен-де-Везле по прозвищу Короткое ухо, сопровождавший везлейцев (сей великий исследователь первым подметил, что осел может реветь только с задранным хвостом) и наш (не осел, конечно) Дом Анкен, заявлявший, что раньше был карпом или щукой, до такой степени он не переносил воду, наверняка в прежней жизни изрядно перепил. Словом, когда мы, везлейцы и кламсийцы, встали из-за стола, в нас прибавилось уважения друг к другу по сравнению с тем часом, когда мы брались за потаж: только за столом и познается, чего стоит человек. Кто любит вкусно закусить, того люблю и я: натура в нем бургундская тотчас видна.
Наконец, чтоб уж окончательно нас сдружить, когда мы переваривали обед вместе, показалось войско господина де Невера, посланное нам на подмогу. Ох и посмеялись мы, и оба наши стана очень вежливо попросили их повернуть назад. Они не посмели настаивать и ушли, пристыженно повесив головы, словно побитые собаки, которых овцы послали куда подальше. Обнимаясь, мы приговаривали: «Что мы дураки, чтобы драться ради наших сторожей! Не будь у нас врагов, они бы их выдумали, ей-же-ей! Чтобы спасти нас! Благодарим покорно! Мы сами себя спасем, нам то не зазорно. Боже, спаси нас от наших спасителей! Бедные овцы! Если бы нам нужно было защищаться только от волка, еще куда ни шло. Но от самого-то пастуха спасет нас кто?»
III
Бревский кюре
Первое апреля
Как только дороги очистились от незваных гостей, я решил безотлагательно пойти навестить своего друга Шамая. Не то чтобы я очень уж беспокоился о его судьбе. Он хват и умеет за себя постоять! Но все же… покойней делается, коли своими глазами убедишься, что дальний друг жив-здоров… И потом нужно было размять ноги.
Никого не поставив в известность о своем намерении, я шел себе, насвистывая, по берегу реки, текущей у подножья покрытых лесом холмов. По молоденьким листочкам барабанили капельки дождя, – будь благословенны эти слезки весны, – который то затихал, то вновь припускал. В высоких стволах нежно цокала влюбленная белка. В лугах тараторили гуси. Дрозды звонко и пронзительно свистели, а синичка выводила свое: титипьют, титипьют…
Уже в пути мне пришло в голову зайти в Дорнеси еще за одним моим другом – нотариусом, мэтром Пайаром: мы как Грации, только втроем составляем полный комплект. Я нашел его в конторе, он что-то там царапал, занося на бумагу, какая сегодня погода, что он видел во сне и что думает о происходящем. Подле него рядом с томом «De Legibus»[8] лежала открытая книга «Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса»21. Когда ты всю жизнь носу не кажешь из своего жилища, мысли-то все одно на месте не удержишь, они, как скакуны, отыгрываются и уносятся в долы мечтаний и рощи воспоминаний; голова за неимением возможности круглой машиной управлять, что случится в будущем с миром, пытается прозревать. Говорят, все предначертано, верю, но признаюсь, мне удавалось признать правоту предсказаний «Центурий» о будущем, только когда они сбывались.
Увидев меня, добряк Пайар весь засветился, и дом сверху донизу зазвенел от раскатов нашего хохота. Уж как я был рад тому, что вижу его: невысокий, склонный к полноте, с рябой физиономией, широкоскулый, с красным носом, прищуренными глазками, живыми и хитрыми, с хмурящимся видом, вечно брюзжащий на погоду, на людей, но в душе добряк, весельчак и еще больший забавник и балагур, чем я. Хлебом его не корми, только дай с суровым видом выдать тебе какую-нибудь несусветную околесицу. Одно удовольствие смотреть, как он важно восседает за столом с бутылкой в руках, призывая Кома и Мома22 и громко распевая свою песенку. Радуясь тому, что видит меня, он держал мои руки в своих – толстых и неуклюжих, но во всем напоминающих его самого: таких же бедовых, чертовски ловких, умеющих и играть на разных инструментах, и пилить, и точить, и переплетать, и столярничать. Он все сделал в своем доме своими руками, и пусть все это некрасиво, но это его рук дело и, красиво или нет, но то его портрет.
Чтобы не утратить привычки жаловаться и на то и на сё, он поупражнялся, кляня все подряд, я же, ему переча, стал напропалую хвалить и се и то. Его можно назвать Доктором Все-к-худшему, меня – Доктором Все-к-лучшему: это у нас такая игра. Он разворчался на своих клиентов, и то сказать, платить они не спешат – некоторым из долговых обязательств уже лет тридцать пять, – и, хотя это в его интересах, он не торопит своих должников. Есть и такие, что расплачиваются, но как бог на душу положит и когда им вздумается, часто натурой: корзиной яиц или парой кур. Так здесь принято, и, если б он стал требовать положенные ему деньги, это было бы воспринято как оскорбление. Ворчать-то он ворчал, но на все махнул рукой; сдается мне, на месте своих клиентов, он поступал бы в точности, как они.
К счастью для него, того, чем он владел, ему было достаточно. Кругленькое состояние давало навар, как курочка яйца. Сам он мало в чем нуждался. Застарелый холостяк он не был волокитой, а что касается того, чтоб поесть в свое удовольствие, природа в наших краях о том позаботилась сполна – чем не скатерть-самобранка наши поля? Виноградники, сады, рыбные садки, крольчатники – все это ломящиеся кладовые с запасами еды. Больше всего средств у него уходило на книги, которые он показывал, но издалека (одалживать их кому-то – этого у него, у стервеца, и в заводе не было), да еще на подзорную трубу, мода на которую пришла недавно из Голландии. Он оборудовал себе на крыше среди печных труб шаткий помост, с которого с многозначительным видом вглядывался в небесный кругооборот, пытаясь расшифровать, ничего в том особо не смысля, азы наших судеб. Вообще-то, он в это не верит, но ему нравится делать вид, что верит. В конце концов мне это понятно: приятно, право, из своего окна глядеть, как зажигаются и гаснут огоньки в небесной вышине, это все равно что наблюдать за барышнями, что проходят мимо – можно вообразить, какие в их жизни происходят перипетии, интриги, какие заводятся романчики; правда это или нет, забавно ведь смотреть кому-нибудь вослед.
Мы долго обсуждали недавнее диво – огненный кровавый меч, прорезавший ночное небо в минувшую среду. И каждый давал свое объяснение, вцепившись в него mordicus[9]. Но в итоге выяснилось, что ни он, ни я ничего не видели. Поскольку в тот вечер мой дорогой астролог заснул у своей подзорной трубы. Когда среди ты дурачин, то Господу хвала: ты не один. С этим нетрудно примириться. Что мы и сделали с большим удовольствием и весело.
Вышли мы из дома, решив ни о чем таком кюре не рассказывать. И двинулись прямо через поля, поглядывая на молодую поросль, розовые побеги кустов, птиц, строящих гнезда, стервятника, описывающего над долиной круги. Смеясь вспоминали добрую шутку, которую сыграли некогда с Шамаем. Месяцы и потоки пота и крови ушли у нас с Пайаром на то, чтобы научить большого дрозда, посаженного в клетку, гугенотскому песнопению. После чего мы его выпустили в сад нашего друга – кюре. Сад пришелся дрозду по душе, и он сделался наставником других деревенских дроздов. Шамай, которому во время чтения служебника мешал их хорал, себя крестом осенял и, ругаясь на чем свет стоит и думая, что в его саду поселился бес, изгонял его, а потом, вконец остервенев, спрятался за створкой окна и стрелял в нечистую силу из ружья. Хотя сказать, что он был совсем уж одурачен, все-таки нельзя: когда бес был повержен, почему бы его было не съесть…
Так за разговорами мы дошли до Брева.
Деревня, казалось, была погружена в сон. Дома вдоль дороги стояли днем погожим раскрытыми настежь навстречу весеннему солнцу и любопытным прохожим. Вокруг ни одного человеческого лица, только у ямы с водой ребячий зад, который, судя по всему, дышал воздухом. Но по мере того как мы с Пайаром, держа друг друга под руку, продвигались по направлению к центру деревни по дороге, устланной соломой и коровьими лепешками, все громче становился гомон человеческих голосов, напоминающий жужжание потревоженных пчел. Выйдя на площадь перед церковью, мы оказались в толпе о чем-то судачащих, жестикулирующих и орущих людей. Посередине, на пороге приоткрытых врат церковного сада, стоял красный от негодования и рычащий Шамай, показывавший своим прихожанам кулаки. Нам было интересно понять, в чем дело, но мы слышали лишь шум голосов: «Саранча, черви, жуки и гусеницы…23 Cum spiritu tuo…[10]»
– Нет! Нет! Не пойду! – кричал в ответ Шамай.
– Черт побери! Ты наш кюре? Отвечай: да или нет? Если это так (а это так), ты обязан служить нам, – неслось в ответ.
– Болваны, я служу Господу, а не вам…
Заварушка была знатная. Шамай, чтобы поставить в ней точку, захлопнул ворота перед самым носом окормляемой им паствы; через решетку можно было еще видеть, как одна его рука по привычке умильно окропляла своих прихожан, посылая на их головы дождь благословения, а другая призывала на землю гром проклятия. В последний раз в окне мелькнул его круглый животик и топорное лицо; в силу невозможности донести до вопиющих свою точку зрения, он приставил к своему носу большой палец одной руки и, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой руки, показал им нос. Вслед за чем ставни закрылись, и дом обрел непроницаемый вид. Крикуны утомились, площадь стала пустеть, и мы, просочившись сквозь поредевшую толпу зевак, смогли взяться за дверную скобу.
Однако нам пришлось долго барабанить в дверь. Упрямый осел не желал отворять.
– Господин кюре! Откройте! – как мы ни изощрялись, на разные лады меняя голоса из желания поразвлечься, он не отвечал.
– Мэтр Шамай, вы дома?
– Пошли к черту! Меня нет, – огрызнулся он, но, поскольку мы не отступались, добавил: – Пошли вон! Если не оставите в покое мою дверь, я вам покажу, где раки зимуют, так окрещу, что костей не соберете!
Он чуть было не вылил на нас горшок воды.
– Шамай, обливай, мы не против, но лучше вином!
При этих словах буря чудесным образом улеглась. Красная, что солнце, и обрадованная физиономия Шамая выглянула из окна.
– Ах вы черти! Брюньон, Пайар, это вы? Ну и натворил бы я дел! Треклятые шутники! Почему не назвались?
И вот он уже, перепрыгивая через ступеньку, скатывается к нам.
– Милости прошу! Да благословит вас Господь! Дайте-ка я вас расцелую! Дорогие мои, как же я рад видеть людские лица после всех этих обезьяньих образин! Вы видели их пляски? Пусть пляшут, сколько им влезет, на здоровье, я не сдвинусь с места. Поднимайтесь, сейчас выпьем. Вам, надо думать, жарко. Ишь, захотели, чтобы я вынес им Святые Дары! Скоро пойдет дождь, и мы с Боженькой вымокнем до костей. Мы что у них в услужении? Я что им батрак какой-нибудь? Обращаться со священнослужителем, как с каким-нибудь деревенщиной! Нехристи! Моя обязанность заботиться об их душах, а не об их грушах.
– Вот как! О чем это ты? На кого это ты так напустился? – спросили мы.
– Поднимайтесь, – отвечал он. – Наверху нам будет удобнее. Но сперва следует выпить. У меня в глотке пересохло, я задыхаюсь!.. Как вам это вино? Явно не из худших. Поверите ли, друзья мои, эти твари хотели заставить меня устраивать каждый день молебен – то как на Неделю о слепом, то как на Пасху… Почему бы тогда не сплошной молебен с Рождества до Пасхи. И все это ради каких-то жуков!
– Жуков! – поразились мы. – У тебя они в голове, наверное, завелись. Ты несешь что-то несусветное, Шамай.
– Вовсе нет! – возмущенно вскричал он. – Ну уж нет, это слишком! Я подвергаюсь нападкам этих сумасшедших, и я же еще ненормальный!
– Тогда объясни нам вразумительно, что произошло.
– Вы выводите меня из себя! – произнес он, вытирая пот, выступивший на лбу от ярости, – мне нужно оставаться спокойным, а нас с Господом, меня и Его, донимают весь день напролет, заставляют потрафлять всякой дребедени!.. Так вот, знайте (ох, я сейчас задохнусь от возмущения), эти язычники, которым трын-трава вся эта загробная вечная жизнь, которые не заботятся о чистоте душ своих также, как не заботятся о чистоте своих ног, требуют от кюре своего прихода то дождя, то вёдра. Я, видите ли, должен управлять солнцем и луной: то сделай им потеплее, да повлажнее, да небо поголубее, так, в самый раз, больше не надо на этот час, то подай им подернутый дымкой, умеренный, не жаркий день, чтоб кружевной и легкой была тень, но только без заморозков и засухи, упаси бог, так, прохладцы чуток. Господи, ороси мой виноградник, лей – не жалей, до самого донца! А теперь прожарь его на солнце…






