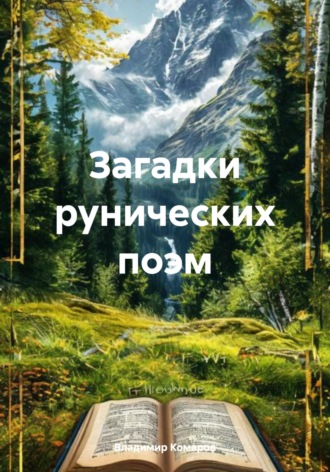
Полная версия
Загадки рунических поэм
7 «Встретились асы
На Идавёль-поле,
Капища стали
Высокие строить,
Сил не жалели,
Ковали сокровища,
Создали клещи,
Орудья готовили».
Итак, боги показали пример, то есть научили, как строить языческие храмы, как создавать орудия труда, а значит, научили и ремёслам, в которых эти орудия труда используются. По существу, вёльва сообщает, что: «Первопредки и культурные герои побеждают фантастических чудовищ и делают землю пригодной для жизни. Они учат племя добывать и хранить огонь, охотиться, рыбачить, приручать животных, мастерить орудия труда, выращивать растения». [(http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/mechkovskaya/0/) Наука, Образование : История : 33. От мифологического эпоса к народным сказаниям о героях: Нина Мечковская]. Здесь не затрагивается вопрос порождения мифов. Здесь ставится задача толкования мифов.
Эддический мёд
Есть мнение, что древние германцы бражничали далеко не каждый день, как может показаться при чтении «Старшей Эдды». Обстоятельства жизни не позволяли. К рядовому бражничеству, будь то в бражном доме или в собственном доме, подавали, в основном и традиционно пиво (эль). Мёд, как хмельной напиток, соответствовал более торжественной обстановке и подавался, как правило, в ознаменование значимости события. Видимо, именно благодаря связи мёда с торжественностью, значимостью и даже возвышенностью события или обстановки, слово «мёд» превратилось в термин, характеризующий само событие, процесс, обстановку, но никак не хмельной напиток.
Мёд лести. В «Перебранке Локи» жёны асов, предметно собравшихся у Эгира на тему попить пива, последовательно уличались в неверности своим мужьям. Об этом убедительно свидетельствовал именно Локи. Желая прервать поток разоблачений, Сив, жена Тора, «налила Локи в хрустальный кубок мёду (а ведь Эгир наварил только пиво – авт.) и сказала:
53 «Привет тебе Локи!
Кубок хрустальный
С мёдом прими»
Очевидно, что в контексте презрительно-оскорбительного обращения асов к Локи (как, впрочем, и Локи к ним) в ходе перебранки, «мёдом» являлась не жидкость, налитая в хрустальный кубок (это могло быть только пиво на пивной же пирушке). В качестве мёда выступала неприкрытая лесть, произнесённая Сив в адрес Локи, как можно предполагать, медовым же голосом с целью заткнуть Локи рот, и тем самым избежать позора. Но женщине не свезло…
Мёд мести. Месть вообще считается самой сильной и всепоглощающей из всех известных страстей. А у древних германцев кровная месть была возведена в ранг закона, который каждый кровник должен исполнять неукоснительно.
Гудрун, жажда мщения которой за убийство своих братьев – Гуннара и Хёгни – затмила все другие чувства, изготовила себе радость из гнева. Она зарезала своих малолетних сыновей, а их сердца скормила своему мужу Атли. И после этого [ГрПсАт]:
35 «… Сказала ему
Слова оскорбленья:»
36 «С мёдом ты съел
Сердца сыновей -
Кровавое мясо,
Мечи раздающий!
Перевари теперь
Трупную пищу,
Что съедена с пивом,
И после извергни».
В то время как Атли запивал пивом съеденные им сердца своих сыновей, Гудрун пила сладкий мёд мести. Страшная, сладкая и традиционная в истории (достаточно вспомнить Медею) месть женщины! Мёдом в данном случае опять-таки явилось не питьё, поданное мужу. Сладкий мёд страшной мести пила сама Гудрун, наслаждаясь созерцанием того, как Атли, съевший, того не подозревая, сердца двух своих малолетних сыновей, запивает это отравленным вином (пивом). Несчастная женщина насладилась актом мщения, сладким и возвышенным как мёд.
Мёд соболезнования. Один в царстве Хель, подняв заклинанием вёльву из могилы, спросил [СнБл]:
6 «… Скамьи для кого
Кольчугами устланы
Золотом пол
Усыпан красиво?»
И вёльва сказала:
7 «Мёд здесь стоит,
Он сварен для Бальдра,
Светлый напиток,
Накрыт он щитом;
Отчаяньем сыны
Асов охвачены …»
Следует вспомнить, что действо развёртывается в мрачном царстве мёртвых. Но речь вёльвы, проникнутая соболезнованием, соучастием, сочувствием создаёт атмосферу светлой печали. Эти тёплые чувства адресованы отцу в желании поддержать его в горестной ситуации.
Сразу бросается в глаза несоответствие обстановке употребление вёльвой слова «мёд». Ну, не вяжется «чистота» продукта пчеловодства – мёда ,– обладающего в том числе антисептическими свойствами, с «не чистотой» (во всяком случае в бытовом смысле) царства мёртвых, «загробного» мира! Это равносильно присутствию церковных восковых свечей, – тоже производное от продукта пчеловодства – в преисподней. Что прежде всего ассоциируется со смертью, с загробным миром? – Ответ очевиден – гроб! Этот гроб (с телом Бальдра) «накрыт щитом». Этот скорбный факт подчёркивается словами вёльвы: «отчаяньем сыны асов охвачены». Гроб, приготовленный для Бальдра, конечно, не стоит (не «сварен») в царстве Хель. Эта метафора означает, что Бальдру уготована участь стать жителем царства Хель, то есть, просто-напросто, – умереть. Но, учитывая положение Бальдра, – один из самых могущественных асов, «светлый» ас, любимец Одина, его жены и всех остальных асов (возможно, за исключением Локи) – о его переселении в царство Хель говорится очень и очень уважительно и сочувственно. Вульгарно приземлённое слово «гроб» заменено на «мёд», «светлый напиток». И это упоминание мёда адресовано не Бальдру. Бальдру это всё равно. Это мёд для ушей его отца! Да и описание самой обстановки, содержащееся в вопросе Одина, проникнуто особой, подобающей случаю, торжественностью и значительностью: «Скамьи … кольчугами устланы, золотом пол усыпан красиво».
Мёд поэзии. В [РчВс] встречается выражение, близкое к выражению «мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало»:
105 «Гуннлёд меня
Угостила мёдом
На троне из золота …»
Ясно, что фраза является глубоко метафоричной. Ну, невозможно допустить, что Один вместе с Гуннлёд сидели на троне (в кресле), и она его при этом угощала мёдом. Эти три строки высвечивают один из самых громких эддических сюжетов – мёд поэзии Одрёрир. В этом контексте можно допустить, что «мёд» – это и есть тот самый «мёд поэзии», и первые две строки как раз и сообщают, что Гуннлёд отлила из своей трёх литровой банки в фляжку Одина немного этого мёда. А какое отношение к этому имеет третья строка? – Что-то не вяжется. Удивляет «громкость» этого сюжета. Скорее, впечатляет полная абсурдность сюжета. Может быть, абсурдность и обусловливает «громкость»? – Несчастного Квасира, субстанцию непонятного происхождения, поместили в «Старшую Эдду» только лишь для того, чтобы заквасить его в брагу под названием «мёд поэзии». Сам Квасир при его жизни никакого отношения к поэзии не имел. Доведению «мёда поэзии» до кондиции предшествовала череда бессмысленных убийств со стороны безвестных персонажей с фиктивным функционалом, которые нигде в эддических текстах более не появляются, а, следовательно, все этапы «перегонки» Квасира на «мёд поэзии» никакого смысла не имеют. Складывается впечатление, что именно эта-то бессмысленная череда событий и персонажей единственно имеет смысл для авторов, – она скрывает бессмысленность конечного продукта. Бессмысленного, – хотя бы потому, что он, как бы, был передан Браги. А ведь Браги – это бог поэзии, что само по себе означает принципиальную невозможность придумать что-либо более поэтическое. Браги – это эталон поэзии, идеал, который по определению нельзя превзойти. Его язык «руны украсили». Это лишний раз подтверждает абсурдность самого понятия «мёд поэзии». Да и сам-то Одрёрир, если под ним понимать «мёд поэзии», никакого развития в текстах не получил. Правда, учитывая в конце концов свершившееся между Одином и Гуннлёд, можно предположить, что под «угостила мёдом» в контексте их отношений понимается совсем другое:
105 «… Плату недобрую
Деве я отдал,
За ласку, любовь,
За всю её скорбь».
С другой стороны, – ласка и любовь на троне? – На троне-то, как-то… Да и презумпция «облико морале»… Тогда, о каком «мёде» говорится в этой строфе? – Если сам продукт вместе с технологией его получения не представляет интереса, то само упоминание мёда на золотом троне всё-таки требует своего объяснения. Продолжая рассказ о себе же от третьего лица, Один говорит:
110 «Напиток достал он
Обманом у Суттунга…».
Здесь «мёд» объявляется напитком. В «Старшей Эдде» есть ещё одно место, где употребляется слово напиток как очевидная метафора. Так, Сигрдрива рассказала Сигурду, что в своё время она была приближённой самого Одина. Впечатлённый Сигурд [РчСг]: «Тогда он просит поучить его мудрости, раз она знает, что нового во всех мирах, Она сказала:»
5 «Клёну тинга кольчуг
Даю я напиток,
Исполненный силы
И славы великой;
В нём песни волшбы
И руны целящие,
Заклятья благие
И радости руны».
Здесь «напиток» – это знания, которыми напитывается Сигурд. Это впервые выводит на ассоциацию, что «мёд» на «троне из золота» – это тоже знания. Выражение «на троне из золота» близко к выражению «на королевском троне», что, в свою очередь, указывает на превосходную степень оценки того действа, которое связано с троном из золота. Трон – это атрибут ритуала коронации. Но нет власти выше власти Одина, – он ВсеОтец, верховный бог. Тогда, на что Гуннлёд могла бы короновать Одина? – Известно, что после своих злоключений, связанных с путешествием во владения Суттунга, напившись напитка, Один возвестил [РчВс]:
111 «Пора мне с престола
Тула поведать
У источника Урд;
Смотрел я в молчанье,
Смотрел я в раздумье,
Слушал слова я;
Говорили о рунах,
Давали советы
У дома Высокого,
В доме Высокого так толковали:».
Престол – это тот же трон. Итак, напившись «напитка» на «троне из золота», Один превратился в тула, и теперь, уже с трона Первого шамана, он решил немного пошаманить, проведя ведический (провидческий) сеанс погружения в Реку Времени. Начало строфы – слово «пора», – как-бы подводит черту под повествованием о приключениях Одина во владениях Суттунга, и открывает начало следующего сюжета, в котором Один трактует всё, что с ним произошло в этом путешествии. (А, надо сказать, в строфах с № 1 по № 95 Один в долгом пути к Суттунгу, готовя себя к предстоящему, прокручивал в своей голове всю ту мудрость, которую ему удалось накопить). И вот, он начинает камлать, анализировать происшедшее и делать выводы в виде советов Лоддфафниру, себе же. Эти советы, в которых Один, отмечая совершённые им же ошибки, посыпая голову пеплом, и самокритично называя себя уничижительным словом «Лоддфафнир», в смысле «дурачок», следует читать так: «Надо было бы тебе, Один, … (или «Не надо было бы тебе, Один …)». Так, «ночью вставать по нужде только надо» (112), а ты попёрся «перед утром, – все почивали, – … лишь сука была привязана к ложу» (101). Тем самым, получил от Гуннлёд заслуженное: «Ну и кобель же ты, Один». И далее, ведь тебе на роду было написано: «с чародейкой не спи, пусть она не сжимает в объятьях тебя» (113), а ты, Один, соблазнил бедную женщину, и использовал «Гуннлёд прекрасную», тебя «обнимавшую» (108). И теперь приходится мучиться угрызениями совести по поводу коварства собственной клятвы (видимо, – любить вечно, весь сезон), данной Гуннлёд (110). И ведь знал же, что (115): «Чужую жену не должен ты брать в подруги себе». А, ты? – Что сделал ты? – А ты принудил её совершить адюльтер «Гуннлёд на горе» (110). Ведь обманутый муж, Суттунг, за этот адюльтер вверг её в «скорбь» (105). (Теперь то уж приходится признать, что Гуннлёд никакая не дочь Суттунга. Она жена его!). И вот так Один выговаривал себе, заглядывая в коллективное бессознательное (теперь-то он обладал такой способностью!).
Впервые слово «Одрёрир» появляется в строфе 107 [РчВс]. А в предыдущей строфе № 106 Один рассказывает, как он бежал, спасаясь от преследования армии ётунов. Он говорит: «Мне гибель грозила» (выделение автора). В строфе № 107, уже от третьего лица, он расхваливает свою хитрость, позволившую ему спастись, и продолжает о себе же любимом: «Так ныне Одрёрир в доме священном людей покровителя», то есть, в Вальгалле. Прослеживание цепочки «(в рассказе Одина, от первого лица:) «мне» – «(продолжение рассказа Одина, но уже от третьего лица: «хитрый Один», он же) Одрёрир в доме» – «Вальгалла» очевидно и однозначно свидетельствует о том, что «Одрёрир» это проявление, хейти, Одина в данном эпизоде. Равно как и «Одрёрир» – это мудрость, которую теперь, напившись Одрёрира и став Первым шаманом, олицетворяет Один.
Закончив самоанализ, Один стал вспоминать как проходила процедура-ритуал его инициации в шаманы. Строфа № 138 [РчВс], открывающая сюжет предполагаемого «обретения» рун Одином, начинается словами: «… висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей». Эддические тексты не дают обоснование тяготения к цифре «девять»: «девять» долгих ночей висения на древе, «девять» песен, узнанных Одином от сына Бёльторна, «девять» лет, как период паломничества к главному Святилищу германцев, «девять» дней празднеств во время посещения Святилища. Разнообразие областей использования позволяет усомниться в том, что «девять» в них действительно означает числовую константу «девять». В предисловии Мариэтты Шагинян к «Калевале» [Клв] применительно к случаю, когда в одной строке руны «Калевалы» о зёрнах говорится, что их шесть, а уже в следующей строке о тех же зёрнах говорится, что их семь, отмечается: «Превосходный знаток и исследователь «Калевалы» О. В. Куусинен, касаясь этих строк, указал на то, что здесь перед нами приём древнейшего первобытного человеческого мышления, ещё не умеющего обобщить накапливаемый опыт в едином понятии или образе, но в то же время стремящегося выразить своё представление о предмете не на основе одного его признака, а на основе рассматривания движущегося предмета, рассматривания накапливающегося числа его признаков. Если первый стих у древнего певца говорит о шести зёрнах, а второй – о семи, то второй вовсе не «дублирует» первый, «нечаянно» давая неточную цифру. Оба стиха должны выразить многочисленность зёрен, и, характеризуя их по счёту «шесть», «семь», поэт хочет дать представление о множестве». Такой уровень мышления общества и уровень развития языка финнов датируется Iв. н.э. Возможно, и в «Старшей Эдде» «девять», как старшая цифра, замыкающая цифровой ряд, знаменует собой множество, понятие «много»? – (Хотя, может быть, у древних германцев в ходу была вовсе и не десятичная система счисления, а, например, двоичная или вообще – по основанию шестьдесят четыре. Тогда «девять» у них, как у обезьянки из мультфильма, могло означать «куча»). Кстати, тексты и фрагменты текстов «Старшей Эдды», в которых для передачи понятия множества употребляется не предназначенное для этого слово «много», а его первичный суррогат «девять», можно отнести к древности, к периоду «становления» богов, в котором только формировалось понятие «много». Таким образом, можно считать, что первые три строки строфы № 138 говорят о том, что Один долго, – не девять дней, но относительно долго, – висел в ветвях мирового древа.
И вот, наконец, итоговая цитата касательно «мёда поэзии» [РчВс]:
140 «…Мёду отведал
Великолепного,
Что в Одрёрир налит».
В этой цитате впервые встретились Одрёрир и мёд, который наливают, то есть «напиток». И говорится вполне определённо: напиток «в Одрёрир налит». Но, ранее было установлено, что Одрёрир – это проявление, это хейти Одина. А «напиток», как тоже было установлено, – это знания. И далее, в развитие этого тезиса Один говорит [РчВс]:
141 «Стал созревать я
И знанья множить,
Расти, процветая…».
Это свидетельствует о том, что заливка «напитка» в Одрёрир – это не разовая процедура. Инициация Одина означает его открытость миру духов, миру коллективного бессознательного, в которых он, как Первый шаман, будет черпать мудрость и мастерство шамана: «дело от дела дело рождало» (141). («Умеешь ли резать? Умеешь разгадывать? Умеешь окрасить? … (144)). Выходит, в Одрёрир, то есть в Одина, залито знание. Именно в силу этого строфы № 105, №138 – № 141 справедливо расценивать как описание инициации Одина как Первого шамана.
Вот в этом контексте проясняется судьба несчастного Квасира, в нём он «получает новую жизнь». Здесь Квасир возрождается как символ передаваемой мудрости. В злоключения Квасира путём очень глубокого иносказания, настолько глубокого, что, видимо, в нём запутались и последующие скальды, была погружена идея передачи тайной трансцендентной мудрости, в которую посвящается инициируемый в шаманы. Итак, «мёд поэзии» не имеет никакого отношения к поэзии, также как и Одрёрир не имеет никакого отношения к сосуду под мёд (вспоминается из Винни-Пуха: «Вот горшок пустой, он предмет простой…»). Разве что Один как сосуд для мудрости. Что же касается этимологии самого слова «Одрёрир», то оно заслуживает отдельного рассмотрения. Пока можно высказать только предположение, что в основе его лежит слово «одр» в смысле «постель», к которой так стремился Один (в объятиях Гуннлёд, конечно).
Мёд знания прикупа. В «Речах Высокого» несколько раз обращается внимание к ночи и к утру. Видимо, утро для древних германцев имело некий глубинный смысл [РчВс]:
23 «Глупый не спит
Всю ночь напролёт
В думах докучных;
Утро настанет –
Где же усталому
Мудро размыслить.».
В русской народной сказке сказали бы просто: «Утро вечера мудренее». Вся надежда на утро, которое обещает открыть нам то знание грядущего, не знание которого не даёт нам уснуть. Когда мы просыпаемся утром, по мере нашего осознания нашего присутствия в мире, в нашем сознании, к счастью, сразу начинают всплывать те ожидания и тревоги, с которыми мы вчера засыпали. К счастью, – ибо в противном случае мы были бы божьими коровками, которые просыпаясь, руководствуются своими инстинктами или рефлексами, или что там у них ещё, и летят, руководствуясь чувством голода и запахом пищи. Ещё не открывая глаз, находясь, как-бы, под защитой сомкнутых век, мы ранжируем наши ожидания и тревоги, и свободным, защищённым пока от влияния внешнего мира, сознанием рисуем пути и образы реализации наших волнующе-радостных ожиданий и строим надежды или даже тактику поведения по предотвращению реализации того, что нас беспокоит. Затем мы открываем глаза и входим в этот мир. И тогда сразу осознаём наличие множества факторов влияния, от которых зависит представленная нами схематичная картина. В нас вселяются привычная напряжённость и опасения по поводу осуществимости наших надежд. И вспоминается бабушкино изречение, которое мы всегда выслушивали с неудовольствием, но в справедливости которого сами же часто убеждались: «Загад не бывает богат!». Нас напрягает и отравляет нашу жизнь неизвестность. Преферансисты (и уже не только они) говорят: «Знал бы прикуп, – жил бы в Сочи». В том смысле, что знание карт, ещё закрытых и лежащих в прикупе, позволяет оптимизировать выбор решения по формированию расклада своих карт, и тем самым значительно повышает шансы на выигрыш, на успех. Знать бы, что у нас в прикупе наступающего дня! Эта тема настолько актуальна и жизненна, что в русском языке существует более десяти синонимов поговорки «знал бы, где упасть, соломки бы подостлал». Естественно, эта тема актуальна не только в России. Английский аналог этой поговорки гласит: «Danger foreseen is half avoided». Утро каждого дня мы начинаем в надежде на прикуп. Вся история, связанная с этим видом мёда, начинается с фразы вёльвы [ПрВл]:
28 «… Каждое утро
Мимир пьёт мёд
С залога Владыки».
Как известно, «залог Владыки» это глаз Одина, отданный им за глоток из источника мудрости великана Мимира. Понятно, что попытка прямого прочтения глубоко метафоричного текста является глубоко бессмысленным занятием, ибо от этого трудно ожидать что-либо иное, кроме вульгаризма. Действительно, прямое проецирование рассматриваемого иносказания как абстракции высокого уровня на бытовой уровень языка даёт интерпретацию, которая вызывает, мягко говоря, недоумение, а говоря определённо, – чувство брезгливости. Тем не менее, оно может оказаться методологически оправданным, как метод поиска от противного. В России есть традиция пить горячий чай с блюдечка. Но пить, пусть даже мёд, с вырванного глаза – это уж слишком!
Естественно, поиск сакрального, или, по крайней мере, неординарного, но в то же время поддающегося (по умолчанию) осознанию человеком, смысла, заложенного в фразу «пьёт мёд с залога Владыки», – а какой ещё смысл можно ожидать от одного из столпов «Старшей Эдды»? – не давал покоя пытливым умам. Известны три подхода к проблеме. Представляется, что их и не может быть много. Ведь искомые смыслы не должны отходить далеко от «трёх сосен»: «мёд», «залог Владыки», «пить с глаза».
Первый подход базируется на метафизичном проявлении Одина как солнца: «Глаз Одина – солнце – отражается в любом источнике, поэтому черпая горстями воду (или мед) можно пить "с залога", поэтому и влага источника может источаться с него»… Подобная интерпретация основного понятийного аппарата и высказывания в целом представляется не достаточно убедительной так как не способствует продвижению в осознании глубинного смысла исходной фразы.
Второй подход более реалистичен. В нём отправной точкой является положение, согласно которому фраза "влага точится с Одинова заклада" (в редакции «Младшей Эдды») понимается буквально: «влага» «точится» из глаза. А из глаза, как известно из опыта жизни (исключая патологические случаи), может точиться только слеза… При таком подходе получается, что Мимир глотает слёзы. Да только не свои. Но они ему кажутся мёдом. А это уже жестокость, которую можно объяснить только такой степенью личной неприязни Мимира к Одину, что он (Мимир) кушать не может. Но «Прорицание Вёльвы» свидетельствует об обратном, – о тёплых, во всяком случае, доверительных отношениях Одина и Мимира… Как видно, и этот подход мало приближает к проникновению в смысл метафоры.
Строго научный подход к раскрытию смысла исходной фразы из «Прорицания Вёльвы» содержится в [Тпр]: «Каждое утро пьет мёд / с залога владыки’; … þar er Mímisbrunnr, er spekð ok manvit er í folgit, ok heitir sá Mímir, er á brunninn; hann er fullr af vísendum, fyrir því at hann drekkr ór brunninum a horninu Gjallahorni. Þar kom Alföðr ok beiddisk eins drykkjar af brunninum, en hann fekk eigi, fyrr er hann lagði auga sítt at veði (SnE 14) ‘… там источник Мимира, в котором сокрыты знания и мудрость. Мимиром зовут владетеля этого источника. Он исполнен мудрости, оттого что пьет воду этого источника из рога Гьяллярхорн. Пришел туда раз Всеотец [Один] и попросил дать ему напиться из источника, но не получил он ни капли, пока не отдал в залог свой глаз’. Данный фрагмент «Младшей Эдды» не оставляет сомнений в том, что мудрость Мимира черпается из источника, отождествляемого с первопространством – Мировой бездной, и состоит в причастности prima materia с момента ее возникновения, замещении Мировой Бездны начиная с illo tempore, сакрального прецедента преобразования хаоса в космос, фиксации и сохранении всех событий, происходящих в космизированной вселенной, то есть памяти обо всем случившемся.»… (В помощь читателю, испытывающему затруднения в понимании этого текста, вынужденно приводится комментарий к нему: «Что касательно … относительно … Так это – знамо дело! … Да оно бы ещё и ничего, … если бы кабы-что … А тут тебе не токмо что, … а прям почём зря!»).
Многие, вероятно, помнят волнительное состояние, когда в детстве до нас доходили первые, косвенные сведения или признаки приближения некоего приятного события (имеется в виду приближение не регулярного, не стопроцентно предсказуемого события, такого, как восход солнца). И мы, предвкушая будущую радость, торопили время, и приговаривали и про себя, и в слух: «Ну, скорее бы наступило … !». На что наши мудрые бабушки, которые умели заговаривать бородавки на наших ладошках и ячмени на наших веках, назидательно шептали нам: «Не говори так! Сглазишь!».
Вот как определяют это интересное явление – СГЛАЗ – умные книжки:
Сглазить – испортить, навредить, накликать. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М., Русский язык. З.Е. Александрова, 2011
Сглазить – сглажу, сглазишь; 1. По суеверным представлениям: принести несчастье, болезнь, повредить кому-либо взглядом (дурным глазом). (Сглазить ребёнка. Кто-то тебя сглазил). 2. Разговорное: Похвалами, предсказанием чего-либо хорошего навлечь плохое. (Не хвали, а то сглазишь». Энциклопедический словарь.

