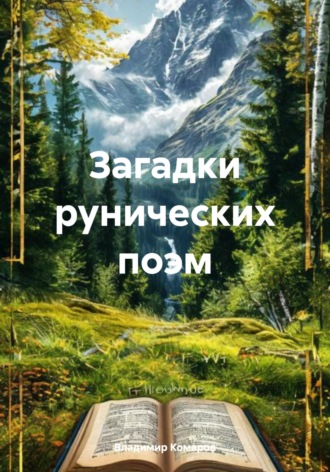
Полная версия
Загадки рунических поэм

Владимир Комаров
Загадки рунических поэм
Первое предисловие автора
«… Слыхал ты про таинственные руны,
Которые безвестная рука
Ночами вырезает на деревьях?
Кто их узрел, на месте застывает,
И, меч роняя, разгадать их тщится,
И тратит годы на раздумья эти,
Пока не станет сед и не умрёт»
(«Нибелунги». Фридрих Геббель.)
Слово «руны», однажды появившись на горизонте сознания, тянуло к себе одним своим звучанием. Очень скупые на тот период времени (третья четверть XX века) сведения о рунах способствовали разгулу фантазии, в результате чего возник искажённый предмет познания, вдвойне таинственный, а потому манящий к себе ещё сильнее. Викинги, руны, Один, – магия звучания этих слов завораживала.
Всё и продолжалось бы также ровно, если бы не стечение обстоятельств. Первую книгу о рунах купил просто из-за понравившейся обложки. Вместо прикосновения к таинству, зародившемуся до нашей эры, получил руководство, в котором сакральный смысл древних рун передавался через инструмент ключевых слов для упрощения пользования. Бессистемное ознакомление с другими публикациями из библиотеки книг по рунам дало примерно тот же результат. Прежде всего, ни в одной из них не были обнаружены доказательства того, что представленный в них материал является прямым наследником древних Северных рун. В них просто предлагалось принимать изложенное за древние руны. Родство представленного в публикациях материала с древними рунами преподносилось «по умолчанию», «на доверительном уровне». Умолчание, видимо, должно было составить у читателя впечатление, будто авторы публикаций, как бы, являются носителями некой тайной устной традиции передачи, которая как раз и зафиксирована в произведениях авторов. «Руны» повисли в воздухе. Так продолжалось пока в руки не попались два перевода, в которых была предпринята попытка построения генезиса рун на основе трёх древних национальных рунических поэм. Наконец-то, вот он, первоисточник, – древние национальные рунические поэмы.
Начались попытки прочтения переводов этих первоисточников-поэм в ожидании открытия сокрытого в них смысла древних рун, очень скоро превратившиеся в пытку. Естественно, пришлось привлечь и вторичную информацию, представленную на рунических Интернет-порталах. Спираль раскручивалась, и тут обнаружилась вся наивность поиска, – оказывается, авторитетные рунологи (или руноведы, – как правильно?) уже давно признали расшифровку рунических поэм тупиковой проблемой. И это на фоне ренессанса рунического искусства IXX – XXI вв. и его бума конца XX – начала XXI веков! Именно признание бесперспективности ретроспективного взгляда на руны вынужденно направило руническое сообщество по двум направлениям разработки темы: современный вульгарный прагматизм «гадания на рунах» и углублённый наукообразный эзотеризм рун.
Ну, а для последователя наивного романтизма забытая и не решённая задача прочтения рунических поэм из стадии процесса познавательного превратилась в стадию процесса психического, – в ВЫЗОВ.
Моей жене, Светлане, посвящается…
Той, что подтолкнула меня к написанию этой книги,
поддерживала меня в этом многолетнем труде
и стала первым читателем, критиком и редактором
появляющихся разделов книги…
Вот уже показались
первые языки пламени
моего погребального костра…
Всходя на него,
я хвалюсь моей женой,
Светланой …
Благодарю тебя, моя Сигюн, …
Ты так долго,
вот уже более полувека,
держала надо мной эту чашу …
Второе предисловие автора
«Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С.Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы»
(«Понедельник начинается в субботу». Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий)
Хроники рун
Что может служить убедительным подтверждением того, что популяризируемые ныне руны действительно являются теми самыми Северными рунами, священными рунами Одина? – Очевидно, только чётко прослеживаемая в веках и, желательно, документированная связь оригинальных рун Одина, которые он обрёл, вися на дереве, с их предполагаемым современным образом. Не вторгаясь в неоднозначное происхождение рун, можно, тем не менее, достаточно уверенно обозреть историю рун. Источники утверждают, что руны в этот мир, в Мидгард, принёс Один. Они так и называются, – руны Одина. Правда, существуют некоторые шероховатости в использовании самого слова «руна».
Не существует общепринятого и обоснованного толкования самого понятия «руна» за исключением случая использования слова «руна» в качестве названия особого графического знака.
Попытки раскрыть понятие «руна» посредством исследования этимологии слова «руна» не увенчались успехом. В конце концов, исследователи остановились на общем первичном толковании слова «руна» как «тайна». Но само слово «тайна», в свою очередь, означает «неизвестность». А это порождает дуализм понимания: либо «руна» становится синонимом «неизвестности», либо содержание понятия «руна» не известно.
Вторым, и основным источником информации о руне является утилизационное назначение современных рун. Авторитетные источники сообщают, что ещё во II веке н.э. германцы пользовались «жеребьёвыми палочками» для предсказаний. Хотя термин «руна» в связи с «жеребьёвыми палочками» в этих источниках не используется, тем не менее, руны стали толковаться и для обозначения оракула, гадательного механизма, и для обозначения самих «жеребьёвых палочек», и для обозначения содержательного смысла, ассоциируемого с каждой отдельной «жеребьёвой палочкой».
Конкретное и уникальное значение, приписываемое в современной практике рунического гадания каждой отдельной руне, якобы, пришло из глубины веков в традиции устной передачи знаний. Тогда правомочен вопрос: это механизм «жеребьёвых палочек» привёл к «рунам» как понятийному аппарату, или изначально самостоятельный понятийный аппарат рун был инкорпорирован в гадательный механизм? – История не даёт ответа на этот вопрос. Но он носит принципиальный характер, так как он впрямую затрагивает природу рун: либо их понятийный аппарат был производным от процесса гадания, либо, напротив, их понятийный аппарат имел самостоятельное назначение и изначально служил другим целям. А от природы рун зависят и значения рун.
В период XI – XIII веков знания о рунах были положены в рукописные источники, – так называемые «Рунические поэмы». Таким образом, начиная с этого периода потенциально сосуществуют две традиции передачи рунических знаний – устная, как и прежде, и, вновь зародившаяся, письменная. В англосаксонской рунической поэме содержится 24 строфы – по одной на каждую руну Старшего ФУТАРКа (рунического алфавита). В нордических (Исландской и Норвежской) рунических поэмах содержится по 16 строф, также по одной на каждую руну, но уже из состава Младшего ФУТАРКа (сокращённой версии Старшего ФУТАРКа). Среди прочих мнений о рунических поэмах существует робкая гипотеза, что строфа рунической поэмы являет собой авторскую формулировку (пусть и заковыристую) смысла соответствующей руны. Однако, предельная краткость строф (размер строфы – от двух до шести строк) совместно с высочайшим уровнем метафоричности строф не позволили их «прочесть», не позволили проникнуть в тайны рун.
И здесь, на ровном месте, возникает ещё один вопрос: почему письменные редакции рунических поэм, положенные в Кодексы, появились именно тогда, когда появились? – Ведь всё имеет свою причину?! – Что, раньше руки не доходили? – Или, что называется, «припёрло»? – И почему Кодексы всех национальных рунических поэм написаны на (древне)исландском языке? – А не на своём национальном языке? – Что, к тому времени норвеги и англосаксы не владели своей письменностью? – Ответы на эти вопросы естественно искать в синхронных исторических событиях. Скорее всего, это объясняется начавшимися к тому времени христианскими гонениями на язычество, элементом которого считались и, несомненно являлись, руны. Любящая, но очень жёсткая христианская рука, начала зачищать свой лужок, убирая с него атрибуты предшествовавшего язычества, в том числе и выбивая самих носителей этого язычества. Вероятно, как свидетельство наметившейся тенденции если и не гонений, то, уж, во всяком случае, деятельного христианского контроля за руническим язычеством следует расценивать и задокументированный факт попытки адаптации рун. Так, в одном из переводов одной древненорвежской рунической поэмы есть строка: «Христос эту землю создал». Хотя всем известно, что создал землю не Христос, но Один. Можно предположить, что в связи с обозначившейся тогда тенденцией перспективы рун просчитывались на раз-два, и носители устной традиции передачи рунических знаний, движимые результатами такого просчёта перспективы, постепенно отступали в географически дальний удел нордического язычества – в Исландию, где, опасаясь гибели устной традиции передачи, и решили архивировать знание о рунах в письменных источниках, закрыв их при этом шифром от прочтения преследователями.
Первая попытка христианизации скандинавских народов была предпринята в 830-х годах «Апостолом севера» епископом Гамбурга и Бремена Ансгаром. Вообще переходный процесс христианизации Скандинавии, а также других стран Северной Европы, происходил в период VIII – XII веков. Первой из скандинавских стран, в 965 году при Харальде Синезубом, официально приняла христианство Дания. Исландия официально признала христианство равной язычеству религией на альтинге в 1000 году. Собственные же архиепархии, подчиняющиеся непосредственно Папе, королевства Дания, Норвегия и Швеция учредили в 1104, 1154 и 1164 году, соответственно.
Получается, Исландия была в авангарде христианского натиска. Однако, может быть, именно в следствие этого, темпы и характер проникновения христианства в жизнь общества были не очень скорыми и одновременно мирными. Специальные источники отмечают, что переход Исландии к христианству был необычно мирным и быстрым, особенно в сравнении с Норвегией, где христианизация была кровавой и растянулась на много десятилетий. Новая исландская церковь в течение почти двух веков развивалась «без присмотра», то есть фактически вне контроля со стороны римской курии и ее эмиссаров. Христианизированные вожди-годи строили на своей земле церкви и рассматривали их как свою частную собственность. И так продолжалось, пока вопрос о контроле за церковными землями не обострился к концу XII века и пока исландская церковь, под чужеземным давлением, не начала требовать для себя отдельной системы права. Это даёт основание рассматривать Исландию того времени не только как географически удалённое, но и как правовое убежище нордического язычества. И это же объясняет, почему сюда стянулись носители устной традиции передачи рунических знаний всех трёх стран.
Можно только надеяться, что к моменту фиксации на твёрдый носитель устной традиции передачи рунических знаний, эти знания были истинны в том смысле, что они были аутентичны рунам периода их «обретения». Доказать такую аутентичность уже невозможно. Можно только «закрыв глаза» поверить в такую аутентичность, ибо в противном случае вообще все современные разговоры о рунах становятся бессмысленными. В целях душевного успокоения можно попытаться подвести косвенные подпорки под это предположение. Как часто и необъяснимо случается, примерно в то же время, в период XII – XIII веков, появляются, так называемые, эддические тексты, которые, не отсылая впрямую к руническим поэмам, отсылают к рунам в контексте их употребления. Эддические тексты, описывающие обретение рун, процесс их изготовления как «жеребьёвых палочек», ритуалы гадания на рунах, вводящие классификацию рун и содержащие расширенный контекст употребления рун, фактически, выступают в качестве метатеории или мета рунической поэмы. Эта мета руническая теория своим содержанием косвенно подтверждает традицию устной передачи и описывает практику применения рун в жизни общества того времени. На этом основании можно постулировать непрерывность традиции устной передачи, во всяком случае, – до периода её фиксации в рунических поэмах, и на этом основании – аутентичность рунических поэм.
В сформулированном постулате главное слово – «непрерывная». А вот, что касается последующего этапа традиции устной передачи, – от периода появления письменной традиции передачи и до настоящих дней, – не только нельзя доказать свойство непрерывности, но, напротив, можно указать период времени, в который эта традиция прерывалась. Традиция устной передачи рунических знаний прерывалась, по крайней мере единожды, – в XVII веке, – в результате жестоких христианских гонений на руническую практику. Возрождение интереса к рунам можно датировать не ранее, чем XX веком. Но, за более, чем три века, прошедших между этими вехами, успело вымереть не одно поколение потенциальных носителей рунических знаний (6-7 поколений). Тогда откуда были импортированы значения рун в период возрождения?
Пробел в традиции устной передачи восполнила современная эзотерическая теория происхождения рун, позволившая наполнить руны эзотерическими смыслами взамен утерянных исходных. От рунических поэм были заимствованы имена рун, которые волевым порядком были приняты в качестве основного понятия руны, а расширенная мантика руны выстраивалась путём привлечения мифологических ассоциаций и эзотерических наслоений. Эта линия осмысления рун является сегодня единственно легитимной.
Казалось бы, в этих условиях единственное, что могло бы спасти ситуацию, – это «прочтение» рунических поэм. Но сама линия восстановления исконного смысла рун исключительно на основании рунических поэм и родственных им письменных источников в современной рунологии была признана тупиковой. А чтобы сгладить возникшую двусмысленность, по умолчанию принято считать, что проблемы прочтения рунических поэм вовсе и не существует. Эта позиция выражается словами одного из корифеев рунологии: «Без сомнения, поэмы предназначены для того, чтобы было проще запомнить названия рун».
Вот и очень юный герой О’Генри, обратившись с вопросом к своему несчастному похитителю, сам же на него отвечает: «Ветер отчего дует? – Потому что деревья качаются!». В этой книге делается попытка опровергнуть логику героя О’Генри, и попытаться «прочесть» рунические поэмы. Задачу восстановления исходного смысла строф несколько облегчает определённая информационная избыточность. Во-первых, каждая руна (каждая из шестнадцати рун Младшего ФУТАРКа) представлена строфой в трёх национальных рунических поэмах, существенно различающихся по стихотворной форме строфы, но, прежде всего, – по содержательному наполнению. Таким образом, одной руне уже соответствуют три разные версии строфы. Кроме того, каждая национальная руническая поэма представлена в трёх канонических редакциях перевода – П.Р. Монфорт, Г.ф. Неменьи и А. Блейз, – которые также значительно различаются и по выразительным средствам, и по передаче смысла. Таким образом, при «прочтении» одной руны одновременно анализируются 3 х 3 = 9 различных редакций. Кроме того, опираясь на гипотезу родства рунических поэм и текстов «Старшей Эдды», эти тексты по ассоциации привлекаются в качестве дополнительных исходных данных анализа.
Как читать книгу
Книга состоит из трёх частей. В первой части приводится позиция автора по вопросу происхождения мифов вообще, и примеры «чтения» ряда «краеугольных камней» скандинавских мифов на основании принятого подхода: «мёд» (в частности, «мёд поэзии»), «пиво», древо жизни Иггдрасиль, источник Урд, источник Мимира. На основании проделанных «упражнений» по чтению мифов наполняется конкретным содержанием само понятие «руна».
Вторая, основная, часть книги содержит методический материал по проблеме «прочтения» рунических поэм, и собственно «прочтение» двадцати четырёх строф рунических поэм, соответствующих двадцати четырём рунам старшего ФУТАРКа.
В третьей части делается попытка оценки полученных результатов и рассмотрение вопросов взаимоотношения рун и рунического оракула.
Книга не преследует цель популяризации рунических знаний в общепринятом смысле, и не содержит фрагментов сугубо познавательного характера в области рунических знаний. Приводимые в тексте цитаты из эддических текстов и краткие пересказы фрагментов этих текстов минимально необходимы для раскрытия обсуждаемой темы. Ссылки на источники даются при цитировании, а также при свободном изложении положений сторонних источников. Литературные, исторические и просто информационные источники, использованные в книге, представлены как материалами, изданными в твёрдой копии (традиционные книги), так и материалами на электронных носителях. Все материалы делятся на основные и те, ссылка на которые носит разовый характер или заимствование из которых не велико по размеру. Реквизиты последних, – и это, как правило, электронные материалы, – указываются непосредственно в тексте, в месте размещения заимствования.
В тексте книги ссылка на источник оформляется в виде уникальной буквенной аббревиатуры, заключённой в квадратные скобки. Источники приводятся в лексикографическом порядке. В первую группу основных источников входят труды, канонические переводы которых являются предметом прочтения:
[Блз] – Анна Блейз; Edred Thorsson, Перевод: Анна Блейз. Рунические поэмы. (weavenworld.ru/runicheskie-poemy/).
[Мнф] – Монфорт, Пол Рис. Северные руны. Москва, Эксмо, 2018.
[Нмн] – Геза фон Неменьи. Священные руны. Издательство «Велигор», Москва, 2009.
Аналогично формируются ссылки на национальные рунические поэмы:
[ДАРП] – Древнеанглосаксонская руническая поэма;
[ДИРП] – Древнеисландская руническая поэма;
[ДНРП] – Древненорвежская руническая поэма.
Основными оригинальными литературными источниками являются тексты «Старшей Эдды» ([СЭ] – Старшая Эдда. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 9. Издательство «Художественная литература», 1975). Кроме того, используются дополнительные источники.
Часть I. Проза «Старшей Эдды»
«Похоже, человечество просто очень не любит расставаться с тайнами. Чем больше эзотерики, чем более мифологичен мир вокруг, тем большим смыслом наполнено бытие. Тайна должна существовать и быть нераскрытой – если пропадает обаяние тайны, то жить скучно и не интересно. Поэтому каждое рационалистическое объяснение любого феномена всегда будет приниматься в штыки».
История христианства и спорынья. (http://www.tinlib.ru/istorija/hristianstvo_i_sporynja/p10.php)
«В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, – строго сказал я, – Что ещё за мистика! Как не стыдно!…» В нише затихли»
(«Понедельник начинается в субботу». Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий,)
Вступление
Тексты «Старшей Эдды», за исключением комментариев, написаны в стихотворной форме. В названии Части I книги слово «проза» употребляется не в смысле формы повествования, но в смысле прозаического, то есть лишённого всей возвышенной поэтики скальдов, изложения содержания, лежащего в основе песен «Старшей Эдды». В этом смысле эту часть можно было бы назвать «В дебрях «Старшей Эдды».
Язык рунических поэм по используемой терминологии, кённингам, метафорам и, отчасти, темам очень близок к языку песен «Старшей Эдды». Например, в одной из редакций древненорвежской рунической поэмы в строфе, посвящённой руне Райдо, впрямую упоминается и имя мифологического героя-карлика Регина, и даже фрагмент сюжета, с ним связанный: «Регин сковал меч наилучший». На этом основании представляется вполне естественным попытаться привлечь тексты «Старшей Эдды» в помощь к прочтению рунических поэм. Эти тексты, как можно ожидать, в силу их несравненно более развёрнутого повествования обладают большей информативностью, и могут послужить подспорьем в интерпретации красочного, но весьма скупого формата рунических поэм.
Однако, в свою очередь, тексты «Старшей Эдды» представляют собой другую крайность – они весьма запутаны по тематике, а в их изложении присутствует большая метафизическая составляющая (не только в песнях о богах, но и в песнях о героях). Уже в героических, казалось бы, приземлённых песнях затруднено прослеживание хронологии и событийного ряда для таких эпических героев, как Сигурд-Хельги убийца Хундинга и валькирия Сигрдрива – принцесса Брюнхильда. Содержание же песен о богах, насквозь пронизанное трансцендентным, естественно, ещё менее доступно восприятию. Для него характерно причудливое переплетение тем и сюжетов. Из него весьма проблематично проследить хронологию – при чтении создаётся впечатление, что события происходят не последовательно, а одномоментно. Всё это, вместе взятое, приводит к парадоксу: сложность исходного материала «развязывает руки» в свободе толкования. К примеру, итогом компиляции коллективного публичного толкования основных метафизических положений «Старшей Эдды» служит примерно такая сказка.
Захотел как-то раз Один стать мудрым. Да вот незадача, – своего ума не хватает! (Надо сказать, тогда ещё не было искусственного интеллекта) Пошёл он тогда к злобному сквалыге, великану Мимиру: «Дай, – говорит Один – напиться из твоего источника мудрости!». «Ну, что ж, – отвечает ему Мимир – изволь. Только за это отдай мне свой глаз». Не задумываясь, вырвал Один глаз свой из глазницы и зашвырнул его в источник Мимира. Припал тогда Один к источнику. Глотнул раз. Глотнул другой. Нет, не прибавляется мудрости! Что тут поделаешь?! Хватило ума только на то, чтобы забраться в дом другого великана – Суттунга – и украсть у него медовый напиток Одрёрир, который, по слухам, обладал способностью подавлять сдерживающие центры, веселить душу, раскрепощать дух, пробуждать фантазию, развязывать язык и совершать открытия на грани безумства. Выпил Один этого волшебного напитка и полез на дерево Иггдрасиль. Долез до самой вершины, да застрял в ветвях на девять суток. Вдруг, видит, – руны! Потянулся Один за ними, поднял их, да от неловкого движения сорвался с дерева и рухнул на землю. А тем временем хитрый Мимир, наблюдая за всеми злоключениями Одина, гаденько подсмеивался и прихлёбывал мёд с вырванного глаза Одина.
Ясно, прежде чем опереться на материалы «Старшей Эдды», их предварительно необходимо «очистить» от метафизических наслоений и расшифровать сюжеты. Восстановление истинного смысла ключевых понятий и сюжетов, переплетенных в текстах «Старшей Эдды», следует искать на пути «растаскивания» тематик, взаимного «очищения» одной тематики от другой. Этот процесс напоминает процесс распутывания рыбацкой сети: ухватившись за одну тематику и потихоньку вытягивая её из спутанной сети, сталкиваешься с необходимостью вытащить и примыкающие к этому участку ячейки, которые принадлежат уже другой тематике. К сожалению, это приводит к взаимным контекстным повторам при раскрытии отдельных тематик. Это обычное дело, – при толковании сложного текста процесс его понимания неминуемо оказывается в герменевтическом круге: нельзя понять целое, не поняв частного, и, наоборот, – нельзя понять частное, не поняв целого.
Излагаемая на этих страницах трактовка событий и интерпретация основных понятий песен о богах не вписывается в общепринятую трактовку мифов, базирующуюся, в основном, на материалах «Младшей Эдды». Задача сравнительного анализа «Старшей» и «Младшей» «Эдд» выходит за рамки настоящего исследования. Какая «Эдда» старше и, соответственно, какая из них младше, какая – первична, и, соответственно, какая – вторична, какая является истиной, а какая – профанацией – все эти вопросы адресуются специалистам в области истории и филологии. А в этой книге все построения основаны, в основном (далее, по скудости литературного языка автора, подобные тавтологии будут встречаться часто), на материалах «Старшей Эдды». А остальное рассудит история.
В основе исповедуемого здесь прозаического взгляда на «Старшую Эдду» и рунические поэмы лежит эвгемеризм, объясняющий мифологию посмертным или прижизненным обожествлением знаменитых или наделенных властью людей. Соответственно, и события, которые проживают обожествляемые персонажи, трансформируются в форму фэнтези-событий. Наиболее точно это выражается цитатой из «TheLib.Ru» Мифы. Легенды. Эпос» Сборник» Скандинавский эпос»: «Пантеон «Старшей Эдды» – это примитивное человеческое общество, дикое племя, которое воюет с соседним племенем, применяя силу или хитрость, совершает походы, берет пленников или заложников, похищает у соседнего племени имущество или женщин, но прежде всего борется со злыми силами, со всем тем, что угрожает его жизни и жизненным ценностям. Злые силы в мифологических песнях «Старшей Эдды» – это великаны (ётуны, турсы) и великанши, и к последним относится также Хель – смерть. Боги «Старшей Эдды» – это те же люди. Они не идеализированы, не абстрактны и ни в каком отношении не лучше людей. Они даже не бессмертны и настолько очеловечены, что образы их разнообразней, сложней и конкретней, чем образы эпических героев в героических песнях. Ваны, асы и асиньи щедро наделены человеческими слабостями и пороками и по своему моральному уровню значительно уступают эпическим персонажам». Как повествует вёльва [ПрВл]:

