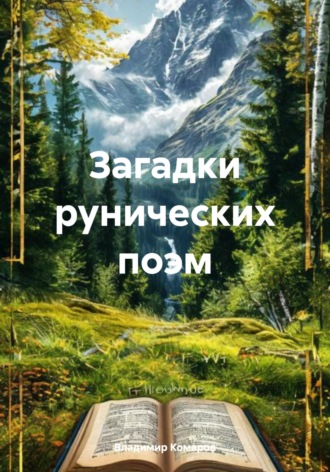
Полная версия
Загадки рунических поэм
Теперь, главная тема строф ДНРП и ДИРП – распря. Слово «распря» употребляется здесь как устоявшееся понятие, как состояние родового (коль скоро – «меж родичей») общества, возникающее на перманентной основе. Это то, с чем обществу того времени «приходилось жить», а следовательно, и вырабатывать правила такого «общежития». Недаром в «Старшей Эдде» все сюжеты развёртываются вокруг распрей. Распря – это не последствия, например, кражи оружия. За это просто отрубят руку, – и все дела, без возбуждения темы мщения, расширения конфронтации и её пролонгации. Распря – это довольно длительная во времени вражда, длиною в жизнь поколения, а может быть, – и не одного. И методы такой вражды достаточно серьёзны: это не плевок в чай родичу, это его убийство. Распря ведётся не на жизнь, а на смерть.
Для распри нужна причина. Из стилистики строф ДНРП и ДИРП очевидно, что речь идёт о вполне определённой причине (Fe). Значит, можно говорить о вполне определённом виде или характере распрей, инициируемых причиной данного вида. Таким образом, вид причины однозначно указывает на вид распри, и, наоборот, – вид распри вполне однозначно квалифицирует причину. Остаётся предположить, что вторая полустрока строфы ДНРП, в противовес мнению, что она нужна исключительно для соблюдения формы строфы и своеобразной рифмы-аллитерации (то есть, что эта полустрока – формальность, лишённая содержательного смысла), как раз и предназначена для передачи причины распри.
Сильным является заявление второй полустроки строфы ДНРП «Волк обитает в чаще лесной». Волк является весьма часто встречаемым персонажем в героике и мифологии древних германцев, на который возлагается большая ноша символизма. Это и волки Одина, это и волк как символ героя, например, Хельги-убийцы Хундинга, это и волки, на которых разъезжают вёльвы, это и волк как символ изгоя и т.д.
Лес – жилище волков. А каждый в своём доме хозяин. Известно, например: «Закон – тайга, медведь – хозяин». Волк – хозяин в своём жилище. Он в нём убивает. И в мифологии, и в героике германцев символ волка наиболее употребим как синоним убийства. В этом качестве используются персонифицированные образы волка. Может быть, именно в этом направлении следует искать смысл второй полустроки ДНРП? – То есть, искать ответ в мифологии и в эддических текстах? – Первым, кого следует упомянуть в этой связи, несомненно, является Волк Фенрир, в схватке с которым в день Рагнарёк погибает вождь дружины асов Один. Следующий сюжет преподносит «Сага о Вёльсунгах», где юный Синфьётли, приняв облик волка, овладевает искусством убивать. Готовя себя к осуществлению безжалостной кровной мести за убийство деда, Синфьётли в облике волка набрасывался сразу на одиннадцать ни в чём не повинных людей и убивал их. И он преуспел в своей подготовке, итогом которой стало убийство как самого кровника, – конунга Сиггейра, – так и всех его малолетних детей и в целом всей его гридни. Несомненно, волк – это и эпический герой Хельги, ещё при рождении уважительно поименованный волком. Он ещё в юные годы, одержав громкие и кровавые победы в сражениях с участием многотысячных дружин, и в одном из этих сражений, сразив конунга Хундинга, вошёл в историю под прозвищем Хельги-убийца Хундинга.
Оставляя в стороне волка Фенрира как часть пророчества вселенского масштаба, случаи Синфьётли и Хельги следует однозначно квалифицировать как кровную месть. Употребление формы глагола «подрастает» позволяет говорить о процессе, точнее о начале процесса: не было волка, но вот он появился и начал подрастать. Не стояла в повестке кровная месть, но вот произошло убийство, и кровная месть актуализировалась, начала зреть. Не было исполнителя кровной мести, но вот он проявился в только что рождённом или даже ещё не рождённом родиче. Таким образом, «волк» – это и вступивший в действие казус кровной мести, и исполнитель этой кровной мести. Поскольку на женщину не возлагалась обязанность кровной мести, смертельно раненый своим сыном Фафниром умирающий Хрейдмар назидает своей дочери Люнгхейд [РчРг], чтобы она родила сына, который должен стать исполнителем кровной мести: «С душою волчьей». Если же родится дочь, то мать должна выдать её за князя, чтобы уже рождённый правнук Хрейдмара точно отомстил за него (как Синфьётли за своего деда).
В [КрПсСг] оскорблённая Брюнхильда разъясняет своему мужу Гуннару после убийства Сигурда:
12 «Сын пусть отправится
Вслед за отцом!
Волка кормить
Больше не будет!
Легче вражда
Идёт к примиренью,
Если в живых
Нет больше сына».
Здесь, «волка кормить», очевидно, следует понимать в смысле лелеять кровную месть. Если в живых нет больше сына (нет больше носителя кровной мести), нет и угрозы кровной мести (известная мудрость: «Нет человека – нет проблемы»). Ещё более чётко этот призыв формулируется в прозе «Саги о Вёльсунгах», где Брюнхильда советует ещё не убитому Сигурду: «Берегись тех, кого ты убил: бойся отца или брата или близкого родича, даже самого юного, ибо часто скрыт волк в юном сыне». Иначе говоря, если уж ты взялся убивать, убивай всю родню.
И та же Брюнхильда в ипостаси Сигрдривы внушает Сигурду [РчСг]:
35 «Десятый совет –
Не верь никогда
Волчьим клятвам, -
Брата ль убил ты,
Отца ли сразил:
Сын станет волком
И выкуп забудет».
Здесь «волчья клятва» употребляется не с целью оскорбить родню убитого (типа «волки позорные»), а с целью подчеркнуть, что закон кровной мести настолько твёрд и нерушим, что даже в случае произнесения клятв верности потерпевшей стороной после получения ею вергельда, эта сторона неминуемо начинает «кормить волка», то есть вынашивать планы кровной мести. Закон кровной мести оправдывает осуществление мести даже после «мирового» соглашения, коим считается выплата виры. Именно это утверждает заключительная часть строфы: «Сын станет волком и выкуп забудет».
Но, кровная месть потому и называется местью, что она порождается только предшествовавшем ей убийством. Волк – это и убийство, и как следствие, – появление на сцене волка-изгоя (убийцы), это и кровная месть, и как следствие, – появление на сцене волка-кровника (мстителя с потерпевшей стороны). События кровной мести выстраиваются в цепочку: первое убийство – убийца объявляется волком-изгоем – актуализация казуса кровной мести – выход на сцену волка-кровника с потерпевшей стороны – потенциальное разрастание кровной мести. Волк – это убийца. Где появился Волк, там произошло убийство. Движителем здесь выступает убийство: убийство и начинает цепь событий кровной мести, и выставляется как необходимость последующей кровной мести. Так что, подставляя «убийство» в качестве определяемого понятия в первую полустроку строфы ДНРП, можно получить высказывание: «Убийство – причина раздора». Следует обратить внимание на тот факт, что в двух из трёх доступных редакций ДНРП во второй полустроке используется форма «Волк подрастает в лесу», которая указывает на реальное зарождение и созревание потенциальной угрозы кровной мести в качестве ответной реакции потерпевшей стороны на убийство родича. Так что, более правильно считать, что «убийство и вызванная им кровная месть – вот причина меж родичей распри».
Итак, в ДНРП речь идёт о появлении права кровной мести в результате убийства вождя.
Совет Сигрдривы. Сигрдрива даёт Сигурду советы. Первый из них, вполне вероятно, соответствует первому заклинанию Высокого, а то, в свою очередь, соответствует первой руне ФУТАРКА – Феху. Вот этот совет [РчСг]:
22 «Первый совет мой –
С роднёй не враждуй,
Не мсти, коль они
Ссоры затеют;
И в смертный твой час
То будет ко благу».
Сначала надо определиться с пониманием концовки: «и в смертный твой час то будет ко благу». Прямое прочтение доставляет такой смысл: наступил смертный час, перед последним вдохом и выдохом исповедуемого выясняется, что в жизни он вёл себя хорошо, с роднёй не враждовал и не мстил им, когда они ссоры затевали, на этом основании высшие силы сотворят ему благо, например, отодвинут его смертный час. Прямо как в детской присказке про умершего зайчика: «… привезли его домой, – оказался он живой!». Как-то не верится, да и вмешательство потусторонних сил смущает. Более рациональной и потому предпочтительной представляется другая вариация трактовки. За призывом «Не мсти» естественно усматривается призыв отказаться от кровной мести. А как же закон кровной мести, призывающий ближайших родственников отмстить кровью за убийство их родного человека, как же честь рода? – А просто закон кровной мести допускает получить виру за убийство родича без каких-либо претензий к чести рода. То есть, вопрос отдаётся на усмотрение потерпевшей стороны. Если будет выбрана месть, то продолжится череда взаимных убийств, которая может радикально приблизить «смертный твой час». Если же ты откажешься от мщения и выберешь вариант материальной компенсации, то тем самым прервёшь начавшуюся было череду взаимных убийств, и тем самым, что важно, – сам, без вмешательства потусторонних сил, отодвинешь свой смертный час. Сигрдрива категорически советует заканчивать дело получением виры. Правда, к тому моменту, когда Сигрдрива давала Сигурду этот мудрый совет, он уже убил убийцу своего отца, а затем и всех его сыновей (чтобы вопросов не возникало).
Построенный вывод из второй полустроки строфы ДНРП сущности «убийство», вроде бы, вполне обоснован. В порядке критики построенного вывода следует заметить, что в нём в явном виде не фигурировала чаща лесная, как предполагавшийся второй ключевой признак смысла. Если же чаща лесная действительно участвует в формировании итогового смысла, то вывод смысла без её учёта следовало бы признать некорректным, а сам полученный смысл, по меньшей мере, – ущербным. Ведь и в русском языке собирательный образ волка дополняется пословицами, эксплуатирующими связь волка с лесом: «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит», «Работа не волк, в лес не убежит» и другие. И ещё, в [ПрПсХлУбХн] сказано:
16 «… В лесу,
Волчьем жилище…».
В порядке реабилитации построенного вывода совет Брюнхильды убить сына («волка кормить больше не будет») убитого Сигурда, фраза «сын станет волком» из десятого совета Сигрдривы, убийство рукой Синфьётли малолетних сыновей конунга Сиггейра, как потенциальных мстителей, убийство рукой Гудрун малолетних сыновей конунга Атли, как потенциальных мстителей, наказ умирающего Хрейдмара своей дочери, чтобы или его внук, или его правнук стал волком, – всё это акцентирует тему волчат и их убийства. А появление на сцене волчат впрямую свидетельствует о том, что где-то рядом и волчье логово в чаще лесной, из которого вышел волчонок. На этом основании можно считать, что «чаща лесная» не имеет самостоятельного значения и призвана лишь превратить «волка» в строфе ДНРП в «волчонка».
Предпринятое изыскание смысла второй полустроки строфы ДНРП полностью базировалось на эддических сюжетах. И это изыскание привело к вполне осмысленному, логичному и вполне совместимому с первой полустрокой результату. Тем не менее, в целях чистоты и полноты исследования полезно попытаться выделить смысл второй полустроки, рассматривая её как коан дзен, то есть, без привлечения эддического контекста. Это значит окунуться в ассоциативное погружение. Фраза «Волк обитает в чаще лесной» рождает очевидный ассоциативный ряд: мрачная, непроходимая лесная чащоба, где водятся одни только волки. Волчье логово. Люди туда не ходят. Там нет людей. Там даже духом человеческим не пахнет. А от человека там, разве что, только косточки. Там бесчеловечно. Экстраполяция этой идеи из чащи лесной на мир людей даёт «бесчеловечность», «не по-людски», «нарушаются законы человечности», то, что подчиняется формулировке Выбегайло [Пнд] – «Человек человеку – люпус эст», «безжалостность», «несправедливость», «коварство». Подставляя «несправедливость» в первую строку строфы ДНРП [Нмн], получаем: «Несправедливость рождает меж родичей распрю». Это похоже на проповедь, но не похоже на (во всяком случае, ранних) германцев. На этом основании можно с уверенностью заключить, что трактовка высказывания второй полустроки строфы ДНРП не предполагала такого решения коана, и решение коана вообще. Что оправдывает трактовку этой полустроки, как «убийство», полученную на основе идеи эддического волка.
ДИРП. Принято считать, что вторая и третья полустроки строфы всех редакций ДИРП содержат кённинги золота. Говорить о «словаре» кённингов можно очень условно. Не существует непререкаемого, официального, авторитетного, «авторского» скальдического издания кённингов с их значениями, датируемого временем написания рунических поэм и эддических текстов. Это даёт основание заявлять, что не существует объективной трактовки кённингов, также, как не может существовать лишённой субъективизма трактовки рунических поэм. Касательно значений кённингов существуют лишь соглашения, более или менее легитимные. Среди прочих есть соглашение считать словосочетание «пламя вод» «классическим» кённингом золота. Основанием для этого утверждения служит прослеживаемое в эддических текстах сопоставление этому кённингу значения «золото». Так, в [РчРг], где Локи требует от карлика Отра, пойманного им в обличии щуки, выкуп за его жизнь, он указывает конкретную валюту выкупа – клад золота:
1 «… Попытайся у Хель
Выкупить голову –
Сыщи пламя вод».
И далее, Фафнир, которому достался именно этот клад, так определяет его в [РчФф]:
9 «… золото звонкое,
клад огнекрасный …».
Таким образом, можно считать доказанным, что словосочетание «пламя вод» можно считать неоспоримым кённингом золота. А вот словосочетание, например, «пламя потопа», претендующее на то же звание, неоспоримым назвать нельзя.
Кённинг золота многие, – видимо, под давлением традиционного значения руны («богатство», «деньги»), – видят и в третьей полустроке. В словосочетании «путь змеи» усматривают намёк на Фафнира, – мол, Фафнир в драконовом обличии – это почти змея, а «путь», надо полагать, означает судьбу, или «До» в азиатской философии. Известно, что Фафнир плохо кончил. Судьба довела. Он поплатился жизнью за коварное убийство отца, а на самом деле – он заплатил жизнью за коварный отъём золотого клада Нибелунгов. На этом основании сторонниками такой интерпретации третьей полустроки словосочетание «путь змеи» напрямую увязывается с Фафниром, а уже Фафнир напрямую увязывается с золотом. Но, таким образом обыгранное словосочетание «путь змеи» назвать кённингом золота можно только, что называется, «на тонкого». Да и жирный Фафнир далеко не змея. Тем не менее, существует мнение, на основании которого словосочетание «путь змеи» выступает в качестве кённинга золота. Получается, этот кённинг в значении «золото», наряду с кённингом «пламя вод» с тем же значением, используется в строфе ДИРП на всякий случай, что называется, до кучи.
При большом желании и первую полустроку также можно было бы отнести к кённингам золота. Так, П.Р. Монфорт отмечает [Мнф]: «Традиционный кённинг золота: rogmalmr – «раздора металл» (конец цитаты). А этот последний – «раздора металл», – почти «причина раздора меж родичей». Если на время допустить, что все три полустроки ДИРП действительно выступают в качестве кённингов золота, то подстановка «золото» на места их вхождений в строфу позволяет свести все её редакции к виду:
«Золото;
И золото,
И золото»
Напоминает крики попугая из известного романа про пиратов: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!». А вся строфа в этом случае несёт информацию типа: «Люди гибнут за металл». На мудрость житейскую это явно не тянет.
Кённинг «пламя воды» приводится только в одной из трёх доступных редакций ДИРП, – в редакции Г.ф. Неменьи. В прямой ассоциации словосочетание «пламя вод» означает солнечный блик на воде, похожий по цвету на жаркое золото. Это сходство по цвету и блеску и позволило использовать это словосочетание в качестве кённинга золота. Если в кандидате на звание кённинга, похожем на классический кённинг золота, слово «пламя» несёт тот же смысл солнечного отблеска, то что нового вкладывают в смысл кандидата слово «потоп» и «наводнение»? – Поток воды во время потопа и наводнения, как правило, бурный и мутный. Такой поток не даст золотого отблеска. Тогда не имеет место эффект «пламени». Единственным отличием «воды» в её нейтральном, «нормальном», состоянии от «потопа» и «наводнения» является только то, что последние два понятия скрытно несут характеристику меры – «много» или «очень много». Что же остаётся? – Заключить, что два эти кандидата в кённинги, являясь производными от «классического» кённинга золота, были введены авторами ДИРП специально для передачи смысла «очень много золота»?
Среди специалистов развернулась дискуссия, вскрывшая разногласия по поводу возможного перевода оригинального словосочетания в исходном тексте поэм. У Л. Виммера вторая строка переводится как «и огонь наводнения», а у Э. Торссона эта же строка переводится как «пожар во время потопа». (Почему-то, в связи с последним кандидатом в кённинги вспоминается анекдот: «Горит публичный дом. Все кричат: «Воды, воды!». Вдруг на втором этаже распахивается окно, и из него пьяный голос требует: «А в шестой номер пива, пожалуйста!»). Профессиональная этика переводчиков не позволила им при переводе «подтянуть» оригинальные выражения до безусловно известного им канонического кённинга «пламя вод», и, тем самым, привести свой перевод к унифицированному каноническому виду. Ведь «потоп», «наводнение» – это та же вода, но только «в профиль», только в подчёркнуто большом объёме, в большой мере. Видимо, подобную вольность (волевым решением при переводе свести дело к «пламени вод») им не позволило сделать слишком большое кодовое расстояние между просто «водой», с одной стороны, и «потом» и «наводнением», – с другой. То есть, слишком большое орфографическое и синтаксическое различие между оригиналами этих словосочетаний. А это может означать, что оригиналы этих, претендующих на звание кённингов, словосочетаний как раз были призваны передавать смысл меры, и эта мера, – «потоп», «наводнение», – по мнению авторов, в контексте воды в строфе ДИРП должна была быть эквивалентом меры «щедро», использованной в качестве ключевого смыслового признака в строфе ДАРП. Таким образом, если кённинг «пламя вод» имеет значение «золото», то, можно предположить, что по мнению авторов словосочетания «пламя потопа» и «огонь наводнения» должны передавать значение «много золота», «щедро отсыпанное золото».
Словосочетание «путь змеи» ранее уже рассматривалось в качестве кандидата на звание кённинга золота. И ему в этом было отказано. Что может служить «причиной раздора меж родичей», чтобы быть увековеченной в бессмертном произведении? – Видимо, что-то серьёзное, посерьёзней того, после чего говорят: «Отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок». Есть мнение, что такой причиной является богатство. Якобы это даже прослеживается в истории клада Нибелунгов, которая, как принято считать, и легла в основу высказывания первой полустроки. Но, так ли это? – Сначала Фафнир убил Хрейдмара, своего отца, и убил, действительно, за клад золота. Затем Регин руками Сигурда убил Фафнира, мстя ему за убийство отца и также желая золота. Затем Сигурд убил и самого Регина, планировавшего, как на то указала синица [РчФф], убить Сигурда в порядке кровной мести за Фафнира. Строго говоря, убийство Регина не было мотивировано завладением кладом Нибелунгов. Согласно сюжетной линии «Старшей Эдды», клад Нибелунгов достался Сигурду по случаю, просто он «плохо лежал». И Гьюки убили Сигурда не из-за его золота, а по наущению оскорблённой Брюнхильды. И Атли убил Гьюков не из-за золота, но мстя за сестру, Брюнхильду. На Гьюках история золота и закончилась, ибо они затопили его в Рейне. Так что причиной распри всех указанных персонажей выступало не золото, но смерть родича, убийство родича. Можно добавить, что реальным первоначалом этой череды убийств и появления переходящего приза в виде клада Нибелунгов, послужило убийство хулиганствующим Локи карлика Отра в образе выдры. А уже род карликов затребовал этот клад в качестве виры за убийство родича. И началось!
Есть сведения, что изучение оригинала самой древней рукописи в ультрафиолетовых лучах, проведённое Пейджем, не подтвердило вхождения в него выражения, давшего ход переводу «путь змеи». (Как ни удивительно, но другие рукописи, содержащие именно такое выражение, всё же считаются каноническими). Г.ф. Неменьи, например, перевёл это выражение как «могильная рыба», которое, тем не менее (непонятно, правда, на основании каких ассоциаций), было принято за иносказание «змеи». Сведущие в лингвистике руноведы (к числу которых, безусловно, принадлежит и сам Г.ф. Неменьи) допускают раскрытие исходного (на языке оригинала) выражения как «копать/хоронить»+«рыбешка (seiði, род. п. seiðis)», т.е. «роющей либо могильной рыбёшки путь». Но, рыба, в выкопанной в земле могиле, – это чушь! С другой стороны, на базе такой редакции перевода можно достаточно естественно получить ассоциации [«могильной» = «похоронной»] и [«рыбёшка» = «плавсредство» = «корабль»]. Тогда третью строку можно прочесть как «путь похоронного корабля» и интерпретировать как указание на захоронение вождя в соответствии с традиционным для викингов ритуалом захоронения вождя, усаженного на корабль, в кургане. Если же поостеречься от таких фантазийных ассоциаций, то можно вернуться к, как бы, каноническому кённингу «путь змеи». Среди кённингов принятых по соглашению существует и кённинг «путь кита», значением которого служит «море». Логика перехода от кённинга к его значению здесь проста: кит путешествует по морю, значит значением кённинга является «море». По аналогии можно попытаться выстроить значение кённинга «путь змеи». Змея всем телом непосредственно соприкасается с землёй, а нора её находится в земле. Это определяет значение кённинга как «земля». А от «земли», учитывая вышеприведённое «копать/хоронить», недалеко и до «могилы».
Итак, в двух кённингах из строфы ДИРП, – «пламя вод» и «путь змеи», – тезисно указывается на «золото» («богатство») и «могилу» («смерть», «убийство»). Получается, строфа ДИРП компилирует в себя два ключевых признака строфы ДАРП, – «богатство» и его меру «щедро», – и два признака строфы ДНРП, – «убийство» и «распря».
И снова ДАРП. Но, как же так? – ДНРП и ДИРП в унисон говорят об убийстве, а ДАРП сосредоточена на утешении, заключающемся в раздаче личного имущества покойного! Отсюда может закрасться мысль, что главной заботой старшины рода, дроста, является строгая регламентация обычая распределения личного имущества покойного родича, будто его сородичи только и ждут смерти товарища в надежде на хороший бонус. Но ведь строфы ДНРП и ДИРП говорят не просто о смерти, но о насильственной смерти, об убийстве! Акцент на особом, – насильственном, – характере смерти родича указывает и на особый характер материальных благ, выступающих в качестве утешения в этом случае: если в общем случае кончины родича речь идёт о его личном имуществе, то в случае убийства речь идёт о плате за убийство, взимаемой с кровника!
Электронный источник сообщает: «Вергельд или композиция – штраф, возмещение, выплачиваемое за нанесенный ущерб пострадавшему или его семье, был, с одной стороны, определенной формой восстановления, искупления чести, и тем самым победы над злой судьбой, с другой – формой примирения, установления мира. При этом искупление касалось чести не только конкретного человека, но и дома, рода, к которому он принадлежал. Отсюда прямая связь возмещения с понятием защиты дома, “мира дома” (frith), которое включало и понятие “мира королевского дома”, трансформировавшегося по мере укрепления государства, королевской власти в более широкое понятие “королевского мира”, нарушение которого возмещалось более крупным штрафом или влекло за собой более тяжкое наказание».
В электронном источнике «О вергельдах (Англия, Х – нач. XI веков) (со ссылкой на «Христоматия по истории средних веков в трёх томах. Под ред. акад. С.Д. Сказкина. Том I, Раннее средневековье. М. 1961. С. 627 – 628) указано:
«Автор юридического трактата «О вергельдах» неизвестен. Этот документ составлен, по всей вероятности, англосаксонским знатоком права и обычаев для руководства в судебных делах, который был записан в X или в начале XI вв., но в значительной мере используют материал судебников VII века.
Вот выдержки из них:
«Когда будет убит какой-нибудь человек, за него следует платить возмещение сообразно его происхождению… После того как это произойдет, устанавливается королевский мир (запрет кровной мести), то есть все они совокупно из обоих родов должны поклясться посреднику на оружии в том, что будет соблюдаться королевский мир … Healsfang полагается [платить] детям, братьям и братьям отца [убитого]; эти деньги не должны [получать] никакие родственники, кроме тех, кто стоит в пределах колена… Со дня, когда будет уплачен healsfang, в течение 21 ночи следует уплатить возмещение [господину за убийство его] человека; затем в течение 21 ночи – штраф за учинение вооруженной стычки; затем в течение 21 ночи – первый взнос вергельда и так далее, с тем чтобы он был полностью выплачен в срок, который установили уитаны. Затем [убийца], если он желает достигнуть окончательного примирения [с родственниками убитого], может жить в мире».

