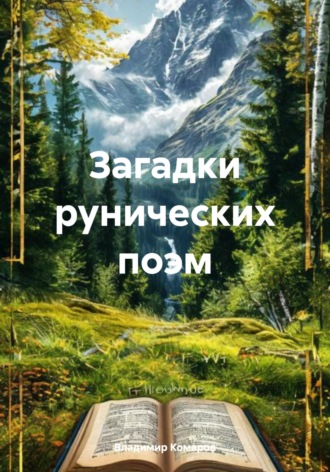
Полная версия
Загадки рунических поэм
Изложенное здесь – вынужденное отступление от основной темы. Коли работаешь с таким явлением, как заклинание, надо хотя бы на уровне «со словарём» владеть сакральным языком, представителем которого является слово «заклинание», ибо работа с заклинаниями – это хождение по краю могилы. Представленный словарь можно было бы дополнить такими словами, как «Коляда», «клясть», «клятва», «клад», «кладбище», «клевета», «клобук», «клич», «кликать», «ключ», «поклон», «клуша», «клоака» и др., но это можно отложить на потом. Конечно, все эти сакральные тайны с чертовщиной не могут впрямую быть использованы в работе с руническими поэмами. Предполагается, что вся сакрализация выветрилась из материалов «Старшей Эдды» и, в частности, из заклинаний Высокого уже к моменту фиксации текстов «Старшей Эдды». Поэтому, в заклинаниях Высокого будет искаться исключительно прагматичный, созвучный строфам рунических поэм, смысл. Высокий так расценивал свои заклинания:
162 «… хороши они,
Впрок бы принять их,
На пользу усвоить».
Из этого видно, что сам Один указывал не на магически-мистическую, но на практическую пользу, прок от следования советам, обычаям, традициям, обрядам, ритуалам, закодированным в заклинаниях Высокого. Из опыта работы с заклинаниями Высокого можно на интуитивном уровне заметить, что отнесение заклинания к той или иной руне можно сделать уже на основании первых двух (не считая полустроки нумерации) полустрок строфы заклинания. В этих полустроках содержатся ключевые слова смысла руны. Остальная часть строфы заклинания носит характер камуфляжа, чтобы в привнесённом постороннем смысле потерялся смысл первых двух полустрок, ну, и чтобы как-то завершить тему, поднятую в первых двух полустроках. Сказанное можно продемонстрировать на примере прочтения одиннадцатого заклинания Высокого из [РчВс]:
156 «Одиннадцатым
Друзей оберечь
В битве берусь я,
В щит я пою –
Побеждают они,
В боях невредимы,
Из битв невредимы
Прибудут с победой».
Сразу следует отмести флёр мистики и магии, который напустил Один в этой строфе. Ясно одно, – Высокий реально не может оберечь своих друзей от поражения и гибели и даже просто от тяжёлых ранений в битве. Тогда о чём эта строфа? – А она о практическом совете, о настоятельном совете Высокого. Он даже не советует, – он заклинает, в смысле настоятельно просит и даже умоляет своих друзей. Так, о чём же он их умоляет?
После всех неудач рунологов и филологов в попытках прочтения выражения «в щит я пою» справедливо предположить, что оно не расшифровывается именно потому, что от него ожидают слишком многого, что оно, в силу своей притягательной таинственности, стянуло на себя всё одеяло внимания исследователей, и в результате этого было незаслуженно выставлено на центральный план заклинания. Действительно, тема щита была сакрализована в связи с такими непонятыми, а потому, как представлялось, обладающими глубоким смыслом, явлениями, как пение в щит и кусание щита. Так, раскрывая смысл руны Соуло в своей книге [Нмн] Г.ф. Неменьи говорит: «Победа над льдами – одно из важнейших значений руны, недаром её называют руной победы. Поэтому, Один поёт эту руну в щит, чтобы его воины уцелели (курсив автора) в бою и победили. У германцев было принято распевать заклинания в щит, усиливавший звук». Как видно, тут тебе и непричинение вреда воинам («невредимы прибудут», то есть вернутся), или, иначе, – сохранение целостности тел воинов в бою, тут тебе и победа, тут тебе и использование щита в качестве мегафона. Там же Г.ф. Неменьи сообщает: «Большим позором считалась потеря щита, потому что тем самым человек лишался своего собственного солнца, своей солнечной богини. Так в «Германии» мы читаем: «Величайший позор – потерять щит; обесчестившему себя таким поступком не дозволяется ни присутствовать при жертвоприношении, ни посещать собраний, и много таких, которые, пережив войну, петлёй полагали конец своему бесславию». Выходит, для германца потерять щит – всё равно, что для ковбоя потерять шляпу. На страницах книг, посвящённых викингам, можно встретить заверения, что норманны перед битвой кусали свой щит, разъяряя себя. С другой стороны, приведение своего сознания в изменённое состояние, как утверждали те же книги, было свойственно только берсеркам. А берсерки не пользовались щитами, – они пользовались мухоморами. А вот, глава клана инеистых великанов, собираясь на последнюю битву, видимо, желая сохранить целостность своего тела в Рагнарёк, прихватил щит [ПрВл]:
50 «Хрюм едет с востока,
Щитом заслоняясь…».
Кстати, а защищается он щитом (чтобы преждевременно не растаять) от жара огненного великана Сурта, тоже прибывающего на битву в Рагнарёк.
Итак, в представленной попытке прочтения заклинания утверждается, что основная направленность заклинания заключена в первых двух полустроках, точнее – в первой полустроке, рассматриваемой в контексте второй:
«Друзей оберечь
В битве берусь я».
Контекст же битвы предлагается считать не более чем традиционным для германцев фоном, привлечённом для раскрытия темы сбережения тела в качестве примера предметной области. Оберечь – вот основная идея и направленность заклинания. Оберечь в битве в предельном переходе означает оберечь тела друзей от доступа со стороны вооружённых врагов. Закрыть доступ к телу. Исключить причинение вреда телу и нарушение его целостности. Любыми средствами. А триумф, победа в битве – это уже лирика. Главное, что они вернутся к жизни невредимыми, в целости и сохранности. Стараясь сохранить целостность тела и закрыть доступ к нему, можно и петь в щит, и кусать щит, можно хоть чего, но главное всё же, – механически предотвратить доступ к телу. Высокий говорит о мерах по механическому предотвращению доступа к телу.
Оберечь, или сберечь, означает сохранить целостность в неблагоприятных условиях или даже во враждебной среде. В итоге, сберечь означает вывести объект сбережения из этой передряги полностью невредимым. В идеале, объекта сбережения не должно коснуться ни одно из возможных несанкционированных воздействий.
После всех неудач рунологов и филологов в попытках прочтения выражения «в щит я пою» справедливо предположить, что оно не расшифровывается именно потому, что от него ожидают слишком многого, что оно, в силу своей притягательной таинственности, стянуло на себя всё внимание исследователей, и в результате этого было незаслуженно выставлено на центральный план заклинания. Действительно, тема щита была сакрализована в связи с такими непонятыми, а потому, как представлялось, обладающими глубоким смыслом, явлениями, как пение в щит и кусание щита. Так, Г.ф. Неменьи сообщает: «Большим позором считалась потеря щита, потому что тем самым человек лишался своего собственного солнца, своей солнечной богини. Так в «Германии» мы читаем: «Величайший позор – потерять щит; обесчестившему себя таким поступком не дозволяется ни присутствовать при жертвоприношении, ни посещать собраний, и много таких, которые, пережив войну, петлёй полагали конец своему бесславию». Выходит, для германца потерять щит– всё равно, что для ковбоя потерять шляпу. На страницах книг, посвящённых викингам, можно встретить заверения, что норманны перед битвой кусали свой щит, разъяряя себя. С другой стороны, приведение своего сознания в изменённое состояние, как утверждали те же книги, было свойственно только берсеркам. А берсерки вообще не пользовались щитами, – они пользовались мухоморами. Все существующие трактовки выражения «в щит я пою» неубедительны, носят характер откровений, и в основе своей опираются на магию. Есть только одна возможность приблизиться к пониманию смысла этого выражения, – проанализировать контекст его употребления. Ибо в отрыве от левого и правого контекста вхождения этого выражения в строфу заклинания допустимы любые фантазии на тему песен в щит. Однако, наличие этого контекста существенно ограничивает буйство фантазии. Щит в контексте сбережения объекта бережения при требовании выхода объекта бережения из передряги невредимым, то есть, неприкосновенным, может означать только одно, – вполне материальный барьер, препятствующий любому механическому воздействию на объект бережения. Щит – это средство предотвращения доступа к телу. Итак, в центре смысла заклинания стоит объект, который необходимо сберечь, оградить от внешнего мира посредством создания материальных преград. А это требует хороших доспехов на теле воина. Высокий умоляет своих воинов не забывать одевать боевые доспехи перед сражением. Как говорится: «по утрам, надев часы, не забудьте про трусы».
Весь проведённый экскурс в мистическое уподоблен «сеансу чёрной магии с последующим её разоблачением». Вот, и в колдовских заклинаниях Высокого предлагается увидеть мудрость житейскую. Для заклинаний Высокого характерна их ситуативность, они, как правило предполагают левый контекст рекомендуемого действия: «коль свяжут мне члены…» (четвёртое), «коль пустит стрелу враг…» (пятое), «если ладья борется с бурей…» (девятое), «если замечу, что ведьмы взлетели» (десятое) и т.д. И для этого контекста заклинание предлагает действие, которое априори считается проверенным временем и овеянным мудростью житейской.
Если отвлечься от мистическо-метафизического контекста, закрепившегося за словом «заклинание», то это слово предстаёт в значении часто употребляемой в быту формы просьбы: «Заклинаю, молю, очень прошу тебя сделать то-то и то-то». И это «то-то и то-то» представляет собой действие, которое по мнению просящего наиболее адекватно контексту просьбы, то, что продиктовано самой ситуацией и опытом просящего. В случае, когда такое заклинание, такая просьба, исходит от Высокого, априори предполагается, что на действие распространяется мудрость самого Высокого. Заклинание Высокого – это поведенческая форма мудрости житейской. Той самой мудрости житейской, которая заключена в строфе рунической поэмы. Поэтому, заклинание Высокого, сформулированное с использованием специфических языковых форм и средств, позволяет увидеть мудрость житейскую в ином, отличном от представления строфы рунической поэмы, свете, что представляет дополнительную информацию о мудрости житейской. Такую форму выражения мудрости житейской, как заклинание Высокого, можно считать равноправной и равносильной форме выражения мудрости житейской в строфе рунической поэмы.
Заклинание Высокого – это завет. Это интеллектуальное завещание умерших поколений новым поколениям людей в форме призыва к неукоснительному следованию накопленной мудрости житейской. Иначе явятся здоровенные добры молодцы с заступами-клюками и обратят в истинную веру неверующих в глубину и действенность мудрости житейской посредством удара заступом по голове.
Феху
Генезис
Согласно П.Р. Монфорт название става – «скот, имущество»; смысл – «золото»; ассоциативный ряд: «богатство» – «возможность заработать» – «прибыль в материальном смысле» – «великий и страшный Фенрир» – «первокорова Аудумла» – «золото»; атт – Фрейра.
Согласно Г.ф. Неменьи название става – «скот»; смысл – «богатство»; ассоциативный ряд: «плата» – «богатство, золото, деньги, имущество» – «бог ветра Один-Водан» – «первокорова Аудумла» – «символ роста и плодородия» – «духовное богатство, склад духа»; атт – Одина.
Как видно, ассоциации в генезисах этой руны, предложенные двумя авторами, пересекаются по двум признакам: «первокорова Аудумла» и «золото». Приписывается эта руна к двум разным аттам. Ассоциативный ряд в каждой редакции – слабосвязанный, не претендующий на расшифровку рунических поэм.
Источники
Древнеанглийская руническая поэма:
ДАРП [Мнф]: «Богатство – всем утешенье,
Но должно делиться им щедро,
Коль славу хочешь снискать пред очами богов»
ДАРП [Нмн]: «Фео – даст помощь любому живущему;
Пусть человек лишь ею поделится,
Если желает, чтоб дрост благосклонен был»
ДАРП [Блз]: «Деньги – утеха любому,
Но каждый обязан щедро их раздавать,
Если желает снискать одобренье господне»
Древненорвежская руническая поэма:
ДНРП [Мнф]: «Деньги рождают меж родичей распрю;
Волк подрастает в лесу»
ДНРП [Нмн]: «Фе – вызывает меж родичей ссору;
Волк обитает в чаще лесной»
ДНРП [Блз]: «Деньги рождают меж родичей распрю;
Волк подрастает в лесах»
Древнеисландская руническая поэма:
ДИРП [Мнф]: «Богатство – причина раздора меж родичей;
И пламя потопа,
И путь змеи»
ДИРП [Нмн]: «Фе – родичей ссора,
И пламя воды,
И рыбы могильной путь»
ДИРП [Блз]: «Деньги – распря в роду,
Прочтение руны
ДАРП. В строфе ДАРП [Мнф] говорится об утешении. А в строфе ДАРП [Блз] говорится об утехе. В [ПзСк] Скирнир, угрожая Герде, произносит, видимо, что-то страшное с использованием слова «утеха»:
34 «… Запрет налагаю,
Заклятье кладу
На девы утехи,
На девичьи услады!».
Очевидно, утеха связана с усладой. А жизненный опыт автора говорит в пользу того, что утешение связано с горем. Так что, сначала следует определиться с терминами. Можно тешить себя мечтами о сладком несбыточном. Можно тешить себя сладкими плюшками. Есть поговорка: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» (обычно, это выражение употребляют, когда о плаче нет и речи, да и о дите – тоже). Тешиться утехой означает получать положительные, радостные эмоции. Так «утеха» определяется и в справочниках: забава, удовольствие, радость. Важно, что «утеха» возникает, что называется, на ровном месте, в смысле не в порядке компенсации негативного психического или физического состояния человека. В этом «утеха» близка «потехе», которая в справочниках определяется как забава, занятие от скуки, развлечение, игра, увеселение, шутка.
Из Нового Завета известно, что «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Оказывается, утешение нужно плачущим! Произошло событие, такое, что людям, которых оно непосредственно коснулось, требуется облегчение негативного эмоционально-психического состояния. Требуется скрасить, подсластить горечь жизни. Это какое-то горестное событие. Людям требуется что-то, что могло бы высушить их слёзы и вселить надежду на лучшее. В справочниках «утешение» это термин, относящийся к психологической поддержке, оказанной тому, кто пострадал от тяжёлой, травмирующей утраты, такой как смерть близкого человека. Она, обычно, оказывается путём выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты и делании упора на надежде на положительные события в будущем. Очевидно, что «утеха» – это антитеза «утешению». Так что, налицо проблема выбора: предстоит не просто определиться в терминах, но, главным образом, предстоит сделать выбор, прибиться к одной из двух возможных тональностей прочтения строфы ДАРП, – либо радостная забава идиота, либо печальные горестные переживания понесшего утрату человека. Почему-то, представляется, что подобная двусмысленность в строфе ДАРП произошла, скорее, в следствие того или иного настроения переводчика, нежели в следствие разнотолков в Кодексах. Можно попытаться устранить сложившуюся двусмысленность.
В строфе ДАРП [Нмн] вместо или на месте слова «утешение» используется слово «помощь». Это слово не встраивается в смысловой ряд «утехи» и «потехи»: забава, услада, удовольствие, радость, игра и т.д. Но оно вполне сочетается с такими понятиями, как печаль, горе, забота. Этот же смысловой ряд и само слово «помощь» явно упоминаются в первом заклинании Высокого, которое выдержано в минорных тонах [РчВс]:
146 «… Помощь – такое
Первому имя –
Помогает в печалях,
В заботах и горестях».
Печальная тональность заклинания Высокого и «утешения» строфы ДАРП [Мнф], а также контекст «помощи» строфы ДАРП [Нмн] и заклинания дают основание предпочесть вариант «утешение» варианту «утеха».
Руна, при её традиционном толковании как «богатство», как бы, сообщает, что богатство может поспособствовать, помочь утешению родичей в их печальном, горестном событии. Известен феномен заедания горя и печали сладкими плюшками. Это сугубо материалистический способ облегчения горестных переживаний. Помощью нищим может служить милостыня, подаваемая им на паперти и служащая им утешением в их горькой доле. Итак, «богатство – всем утешение» (во всяком случае, это общепринятое толкование). Этот тезис, – что богатство не помешает в горе (также как не помешает и в любом другом случае), – принимается безусловно, за очевидностью.
А к чему относится условие «должно делиться им щедро», – к «богатству» или «утешению»? – Самостоятельным качеством здесь выступает «богатство» так же, как «Фео» в ДАРП [Нмн] выступает первичным качеством перед «помощью». Ну, а «утешение» и «помощь» выступают как оценки, как производное первичных качеств. Конечно, и «утешение», и «помощь» при определённых условиях могут выступать как самостоятельные категории. Но, всё же в контексте ДАРП «утешение» выступает представителем «богатства», а «помощь» – представителем «Фео». Значит, и делить предлагается «богатство» и «Фео» с оценками «утешение» и «помощь».
Считается, что в ДАРП речь идёт о распределении денег, золота, а на начальном этапе жизни руны, – возможно, скота, в общем, счётных материальных ценностей. Ведь это так по-человечески! В России в девяностых годах XX века идея, приписываемая ДАРП, даже вылилась в эпохальный клич рэкетиров и бандитов: «Делиться надо!». Как вариант можно предположить, что строфа ДАРП несёт миссионерскую, нравоучительную нагрузку – если на тебя свалилось богатство, поделись им с ближними своими, и тогда ты совершишь богоугодное деяние (в общем-то это сродни «Да не оскудеет рука дающего»). На этом можно было бы и закончить, как и предлагают классики.
Но, нет, это не добровольная раздача милостыни на паперти церкви, это обязывающее положение: «должно делиться им щедро». Здесь можно подчеркнуть каждое из трёх слов. Щедрый раздел, очевидно, означает справедливый делёж. А слово «должно» несомненно должно трактоваться как обязанность, причём поднадзорная обязанность, ибо она контролируется дростом и даже богом. Может быть, это связано с тем, что, как правило, делёж чего-либо между претендентами на обладание чем-либо приводит к конфликтам? – Как, например, к конфликту привел делёж пяти золотых, отнятых лисой Алисой и котом Базилио у Буратино в к/ф «Приключения Буратино», где Алиса говорит: «У нас пять золотых. Так? Пять на два не делится? Не делится, да? Попробуем разделить… на пять! Получается… один! Получай!». В результате этого дележа они вцепились друг другу в морды. Однако, если бы подобным образом проходил каждый делёж чего-либо, общество из родового превратилось в первобытное, где по каждому поводу вспыхивали драки. От этого спасает уровень развития родового общества: в роду отношения его членов строго регулируются обычаями и законами рода. Поэтому, почвы для возникновения в роду распри на почве дележа материальных ценностей, вроде бы, не должно быть. В то же время, забегая вперёд, не следует забывать, что одним из центральных моментов строф ДНРП и ДИРП является распря в роду. Но, всему своё время.
В связи с каким печальным событием на общество, вдруг, может свалиться такое счастье (вот такая коллизия: печаль – счастье), как богатство, которое выдвигается в качестве основного понятия строфы? – Арабский купец и историк Ибн Фадлан называет похороны у викингов «распущенной оргией». После смерти норманна-конунга его друзья и родственники нисколько не горевали, а наоборот, выглядели довольными и веселыми. (Некоторые источники позволяют прочесть первую полустроку строфы ДИРП как «и радость людей» (именно такой вариант выбран Р. Пейджем как нормализованный), что напоминает «всем утешение» в строфе ДАРП и свидетельство Ибн Фадлана о радости, демонстрируемой в ходе похорон). Ну, да ладно, ну, веселятся люди на похоронах, – что тут такого? – Вон, на русских свадьбах, вообще, принято драться («Драку заказывали?»). – Но для прочтения ДАРП важен тот факт (являющийся элементом «распущенной оргии»), что вместо того, чтобы скорбеть и предаваться горю, они делали неприемлемые с точки зрения порядочного человека вещи: начинали делить имущество покойного. И Ибн Фадлан не сообщает о каких-либо конфликтах при этом дележе. – А просто внутренняя жизнь общины была зарегламентирована и заорганизована настолько, что там не было места для проявления воли, там не приходилось особо думать, – как в армии, счастливо живущей в условиях действия «Устава гарнизонной и караульной служб». Люди умирали регулярно, внезапно и часто, что, естественно, потребовало регламентации, в том числе, и раздела имущества покойного, чтобы сделать его рутинным, исключающим эксцессы мероприятием.
С исчезновением общинно-родового строя формула распределения имущества покойного (в связи с изменением формулы самого имущества) изменилась, но регламентация всё равно сохранилась. В случае погибшего викинга всё его личное имущество, делилось на три равные доли. Одна – семье (наследникам), другая – на шитье погребальных одежд, третья – на приготовление поминальной тризны. Первая полустрока ДАРП обещает потенциальное благо («утешенье», «помощь»), заключённое в центральном понятии строфы, – Фео, – целой группе людей («всем», «любому живущему», «любому»), претендующих на это благо. Вторая же полустрока формулирует условие, при котором это потенциальное благо может реализоваться в реальное, ощутимое благо, – просто надо «делиться», раздавать. Ну, а оставшаяся часть строфы во всех редакциях просто провозглашает принцип такого деления, – справедливость, которая выражается такими категориями, как «слава пред очами богов», «дрост благосклонен», «одобренье господне». Последнее, по существу, отражает действовавшую в общине норму справедливого, или «щедрого», дележа.
Раздача имущества покойного приобрела форму имущественной помощи сородичам пропорционально степени родства, и носила рекомендательно-принудительный характер. Автор наблюдал реализацию подобной традиции в 1956г. на Северо-Западе России в деревне Лопатино, около села Прямухино Тверской губернии. Большое личное имущество, как тогда говорили – «зажиточной», – умершей из огромных сундуков – иконы, старинная посуда, большие домотканые расшитые полотна и др., – раздавали ближнему кругу умершей, а таковым была вся деревня (близкие и дальние родственники, родичи). Моей матери досталось большое красивое домотканое полотно. Я помню недовольный ропот тех, кто посчитал, что делёж был не вполне справедливым (распря, правда, не возникла). То был обряд закрепления у родичей памяти об умершем. Считалось, чем богаче дар, тем ближе одаренный был в жизни к умершему, тем больший почёт он должен иметь в глазах родичей, во всяком случае в контексте данного печального события. С такой раздачей имущества покойного перекликается (даже в ассортименте – «покрывала в узорах, пёстрые ткани») сюжет раздачи Брюнхильдой своего добра перед тем, как она пронзила себя мечом [КрПсСг]:
49 «Пусть подойдут
Те, кто золото хочет
И серебро
Моё получить!
Каждой я дам
Золотые запястья,
Покрывала в узорах,
Пёстрые ткани».
Таким образом, при прямом прочтении строфы ДАРП ключевыми моментами выступают внезапно возникшее делимое благо, наличие более одного претендента на благо, делёж блага, диктуемый справедливостью и правом. Но, «с неба сваливается» только личное имущество умершего родича. И именно это имущество, как можно предположить, потенциально составляло предмет и причину распри между родичами, о которой говорится в нордических рунических поэмах.
ДНРП. Безусловно, главной темой первой полустроки строф ДНРП и ДИРП является распря. Но, не менее важным представляется и среда, в которой происходит распря, – «меж родичей». То есть речь идёт не о внешнем враждебном факторе, но о внутри родовом факторе, о распре внутри рода, распре между членами рода. Само упоминание «родичи» предполагает наличие объединяющего начала по крови. Родичи в роду связаны, даже если не вполне кровными (за счёт привлечения внешней крови), то уж точно сильными внутриродовыми связями («дальняя кровь»). В роду отношения его членов строго регулируются обычаями и законами рода. Поэтому, материальные ценности, как предмет и причину распри, следует исключить из рассмотрения как возможную причину конфликта именно в силу жёсткой регламентации распределения общих материальных благ и перехода прав собственности. А личное имущество было представлено настолько минимально, что из-за него и не могло возникнуть конфликта большего, нежели шлепок по чужой руке, протянутой к личному зеркальцу. Конечно, при выходе из родового строя и перехода к частной собственности конфликты из-за этой частной собственности становились обычным делом. Но и там действовали законы в том числе и по защите уже частной собственности. И хотя законы защиты частной собственности носили уже светский характер, родовые связи естественным образом сохранялись.

