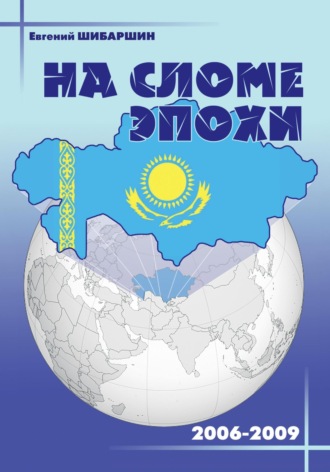
Полная версия
На сломе эпохи (2006-2009 годы)
«Наша газета», 13.07.2006
Кем быть?
Давно уже признано, что в Казахстане на рынке труда существует явный перекос по профессиям, полученным в вузах. В стране очень много молодых специалистов в области права, экономики и финансов, но крайне мало технических кадров. Что делает государство, чтобы исправить ситуацию? Ответ на этот вопрос особенно актуален в эти дни. Ведь с 22 до 31 июля вузы Казахстана принимают заявления от претендентов на получение государственных грантов на бесплатное обучение. Насколько такая система финансирования влияет на количество специалистов, которые обучаются по различным специальностям?
По совету друзей
Если рассуждать чисто теоретически, напрашивается логичный вывод – потребность рынка труда в тех или иных специалистах должна жёстко влиять на деятельность высших учебных заведений, регулируя набор специальностей, которым они обучают. На самом деле всё иначе, вузы не несут никакой ответственности за трудоустройство своих выпускников.
Руслан Карамурзин принёс документы для поступления в Костанайский инженерно-экономический университет (КИнЭУ) вполне осознанно. Он окончил один из местных лицеев, где получил сразу две специальности. По одной из них – «техник по обслуживанию компьютеров» – теперь работает в частной фирме. Решил, что пора получить и высшее образование. В КИнЭУ открылось новое отделение, на котором готовят инженеров по вычислительной технике. По словам Руслана, именно друзья и бывшие педагоги посоветовали идти в это учебное заведение. Да и сам автор этой статьи, когда увидел тамошние полигон энергоустановок и технические лаборатории, стал понимать ребят, которые пришли туда учиться. Ведь они наверняка склонны к общению с «железками» и получат теперь этого удовольствия по самую макушку. Впрочем, как и те, кто пришёл на инженерно-механический факультет Костанайского госуниверситета. Вот только получить возможность учиться за счёт государства для них проблематично.
Заказ государства
На очередной набор в вузы республиканский бюджет выделил около 33000 грантов на всех абитуриентов страны. Из них на обучение по техническим специальностям – примерно 11000. Для того чтобы понять – много это или мало – приведём несколько цифр. В департаменте образования Костанайской области «Нашей газете» сообщили, что в этом году в едином национальном тестировании (ЕНТ) участвовали 8907 выпускников школ. 70% из них набрали более 50-ти баллов. То есть только в нашей области в это году добавилось почти 6500 человек, потенциально претендующих на поступление в вузы, и в том числе – на получение гранта. Как сообщил нам начальник учебно-методического управления Костанайского госуниверситета Мейрамбек Тастанов, КГУ ежегодно получает 800-1000 грантов, при том, что на дневном отделении обучается 6000 студентов. В том же КИнЭУ, по информации проректора по учебно- методической работе Ельтая Сапанова, получается 70 грантов на 1300 студентов. При такой статистике говорить о существенном влиянии государства на повышение заинтересованности молодых людей в обучении техническим специальностям не приходится. Тем не менее, в беседе с вышеназванными собеседниками выясняется, что желающих получить профессию инженера становится больше.
А инженеры лучше…
Что же влияет на этот процесс? Скорее всего – выход страны из экономического кризиса и постепенное наращивание сферы производства и переработки.
– КИнЭУ в этом году открыл три новые специальности, – говорит Ельтай Сапанов. – Могли бы ещё две, но пока не готовы к этому. К нам стали постоянно обращаться различные предприятия, крестьянские хозяйства и сельские ТОО с просьбой подготовить нужных им специалистов. Очень часто они сами направляют своих людей на учёбу и оплачивают ее. Едут к нам и из других республик СНГ. Например – из России и Узбекистана. Подготовка инженерных кадров требует больших затрат на создание учебных лабораторий, поэтому сегодня не каждый вуз берется за эту ношу.
В этом случае мы наблюдаем уже складывающуюся систему вовлечения в профессию в условиях рыночной экономики. На мой вопрос: что ими движет в желании развивать свой вуз, Ельтай Сапанов ответил:
– Не думайте, что желание набить наш университет студентами. Мы ищем оптимальный вариант, при котором могли бы качественно готовить именно столько студентов, чтобы после окончания вуза они все были устроены по специальности, а мы были бы мобильными и быстро реагировали на изменения потребностей рынка труда.
Возможно, перекосы на казахстанском рынке труда начнут выравниваться, если учебные заведения проявят заинтересованность в трудоустройстве своих выпускников. Ведь в условиях конкуренции между вузами этот фактор тоже определяет выбор абитуриентов.
Сварщикам власть не помощник
Есть среди учебных заведений и ещё одна категория, куда устремляются выпускники школ за получением профессий. Речь идёт о средних специальных учебных заведениях. Регулирует ли государство процесс подготовки рабочих?
– Если в 2001 году нам выделили 19 миллионов тенге, – рассказывает Анатолий Брагинец, директор Костанайской профессиональной школы областного департамента образования, – то на 2006 уже дали 48 миллионов. Помимо этого, мы получаем трансферты из республиканского бюджета. Например, в позапрошлом году на два с половиной миллиона приобрели станок с оборудованием. Сразу же резко выросло качество подготовки мебельщиков, и они без проблем потом смогут устроиться на работу в мебельные салоны. В следующем году получим восемь с половиной миллионов и приобретём новый автокран. У нас на эту специальность всегда хороший набор.
А вот на сварщика учиться желающих мало. Хотя только в Костанае на эту профессию 1500 вакансий. Причина в том, что оплата труда не соответствует степени вредности этой работы.
– Готовимся приобрести современную электролабораторию, но и на электриков к нам учиться не идут, – сетует Анатолий Брагинец. – По той же причине, что и на сварщиков. Хотя потребность в таких специалистах тоже большая.
Как видим, не всё так просто на рынке труда. Его стихия при любом поведении государства в кадровой политике всё равно будет существенно определять выбор профессии. И тут основную роль, по мнению моих собеседников, играют родители выпускников школ. Они оплачивают учёбу своих чад, помогают им трудоустроиться, и потому «кем быть?» решают чаще всего они.
«Наша газета», 20.07.2006
Умопомрачение
Полгода назад в Костанае граждане соорудили чучело бюрократа и подожгли его. Они не согласились с решением городского акима. Его
«добро» на строительство развлекательного заведения во дворе их дома грозило им большими неудобствами в будущем. Тряпичная кукла в образе чиновника горела ярко. Огонь согревал в душах участников этой сцены надежду, что акция сия будет замечена, и власть изменит своё решение.
В начале июля перед Национальным пресс-клубом в Алматы журналисты посеяли семена чертополоха. Его будущие цветы предназначаются министру информации. В знак особых заслуг по «проталкиванию» недавних изменений в Закон «О СМИ», которые свободу слова будут угнетать так же, как и этот сорняк – другие растения. Мероприятие получилось весёлое. Наверное, потому, что никому из «сеятелей» министерское законотворчество ничем лично не угрожало.
Можно вспомнить и другие формы протеста, выдумывать которые интеллигентные люди всегда горазды. Был бы повод. А их у нас, к сожалению, достаточно. Иногда – даже слишком. Настолько, что для оформления мятежного сопротивления до уровня цивилизованности не хватает нужного количества интеллектуалов. Тогда в дело вступают люди, чей ум хотя и не чурается ироничности, но никогда не позволяет себе абстрагироваться от жестоких реалий. Потому как жизнь регулярно ударяет их «пятой точкой» о земную твердь.
В прошлую пятницу жители микрорайона «Шанырак» в южной столице захватили в заложники полицейского, облили его бензином и подожгли. Парень этот помогал судебным исполнителям выполнять решения суда по выселению людей из самовольно построенных ими жилищ. Его же посчитали за чучело, которое олицетворяет местную власть, и если бы он не закричал от боли, так и не увидели бы в нём живое существо, которое требует к себе сострадания. А кто увидит живых людей в тех тысячах, которые, приспосабливаясь к рыночным реформам, ушли из аулов в большой город, надеясь, что он их прокормит?
Аким Алматы Имангали Тасмагамбетов не стал в знак протеста сеять чертополох возле здания акимата Ауэзовского района, на чьей территории находится микрорайон «Шанырак». Ему не до иронии. Дело тут куда серьёзнее. Лучше главу района «спалить». Непонятно только одно – почему, для того чтобы снять его с должности, нужно было дожидаться поджога полицейского? Ведь ещё полгода назад нас упорно убеждали, что в Казахстане очень даже может быть «цветная» революция. Если будем слушать оппозиционеров. Так неужели цивилизованные претензии на власть сторонников демократии, ещё недавно размышлявших об этой перспективе, сидя в правительственных кабинетах, страшнее стихийного бунта голодных людей, у которых крышу над головой отбирают? Складывается впечатление, что в Казахстане слабо представляют, откуда исходит реальная угроза возможных беспорядков.
Когда во время недавнего бунта в Париже французская полиция вела себя достаточно сдержанно, у нас подобный либерализм вызывал недоумение. Даже из высоких кабинетов доносились слова о нерешительности тамошней власти, а известный казахстанский поэт заговорил о кризисе демократии в Западной Европе. Похоже, что кое-кому был ближе вариант
«наведения порядка», который применили узбекские власти в Андижане. Потому и бывший президент Кыргызстана упрекался в отказе применить силу, которая могла бы, дескать, предотвратить погромы в Бишкеке.
Нам сейчас сложно предполагать, что бы произошло, если б г-н Акаев не «ушёл огородами» в российскую столицу, а затеял силовую опер цию по «защите конституционного порядка». Но мы уже знаем, чем в Алматы закончилось широкомасштабное применение полиции при усмирении смутьянов, не желающих подчиняться решению суда. Будут ли сделаны правильные выводы из этих трагических событий? Сомневаюсь. Руководитель республиканского общественного объединения «Болашак» уже объявил публично, что беспорядки в «Шаныраке» организовали некие «внешние и внутренние силы», которые заинтересованы в создании отрицательного имиджа Казахстана у мировой общественности. Причём говорил он это без всякой иронии. При таком умопомрачении мы опять сожжём не то чучело.
«Наша газета», 20.07.2006
Евгений Аман: Мы должны тратить столько, сколько зарабатываем
В июне Парламент РК внёс изменения в бюджетное законодательство и Налоговый кодекс. Теперь все доходы от деятельности нефтедобывающих компаний будут поступать только в Национальный фонд. Текущие расходы республиканского бюджета будут покрываться из других источников. Предполагается также снизить некоторые виды налогов. Как это скажется на формировании доходов бюджета? Помогут ли данные меры развитию отечественного производства, и не повлияют ли они на уровень жизни казахстанцев? На вопросы «НГ» отвечает член Комитета по экономике, финансам и бюджету Сената Парламента РК Евгений Аман.
Как не проесть Нацфонд?
– Евгений Иосифович, в Казахстане с 1 июля доходы всех нефтедобы- вающих предприятий начали перечисляться в Национальный фонд. Теперь деньги оттуда будут браться только на развитие экономики. Не пострадает ли от этого финансирование учреждений образования, здравоохранения и других социальных нужд?
– Ни в коем случае. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно, прежде всего, посмотреть динамику изменения республиканского бюджета и процессы, которые при этом происходили. Бюджет республики, к примеру, в 2000 году составлял 450 млрд. тенге. А уточнённый бюджет 2006-го – уже 1665 млрд. В прошлом году фактические расходы (с учётом выплаты внешнего государственного долга) составили 1883 млрд. Это больше, чем в 2004 году, на 66,3%. Рост фантастический. Всё это во многом связано с увеличением социальных расходов. Что, в свою очередь, подхлестывает инфляцию. Когда мы начинаем сравнивать бюджетные расходы с ростом ВВП на душу населения, то его девяти – десятипроцентный ежегодный рост явно несопоставим с нашими расходами. А если посмотреть динамику производительности труда, то там ещё хуже. Поэтому для увеличения производства ВВП на душу населения, о чём говорил президент в своем Послании, нам нужно избавиться от «бесконтрольных» – если их так можно назвать – расходов. Деньги в большей степени надо тратить на проекты, которые бы приводили к созданию нового производства и раб чих мест. К сожалению, у ряда министерств в последние годы имело место раздувание штатов, они увлекались обустройством зданий, покупкой автомашин.
Я считаю, что в этой схеме вначале должны преобладать чисто прагматические оценки возможных последствий для экономики, в которые потом можно вносить и политические корректировки. Так вот, хотя темпы роста ВВП и вызывали удивление на Западе, его большая нефтяная составляющая нас не устраивала. Поэтому бюджет 2007 года мы будем принимать уже без доходов от углеводородов. Все наши текущие расходы теперь будут совпадать с возможностями нашей экономики без учёта нефтедобывающего сектора. Что касается средств Национального фонда, то оттуда будут финансироваться только проекты, связанные с развитием. Причем только те, которые не поднимут уровень инфляции. Именно такая схема работает в Норвегии.
Кстати, мы внесли в кодекс пункт, запрещающий даже на расходы по развитию брать более одной трети от общей суммы накоплений в этом фонде. Иначе там ничего не останется для будущих поколений. Хотя и для того чтобы их сохранить, многое нужно сделать. По этому поводу у нас с правительством постоянно происходят стычки.
Я считаю, что по примеру той же Норвегии нам нужно больше внимания уделять капитализации средств Нацфонда. Там часть денег пущена в оборот через покупку акций около 800 высокодоходных компаний с мировым именем, и средства на государственные нужды берутся, в основном, из поступающих дивидендов. Мы же до конца текущего года запланировали на развитие взять из своего Национального фонда 172 млрд. тенге, и если дальше пойдём такими темпами, ничего не меняя, то мы его быстро проедим.
Почему за землю дают взятки?
– Парламент в очередной раз снизил налоги, соответственно уменьшатся и налоговые поступления в бюджет. Будет ли это компенсировано будущим ростом производства? Ведь до сих пор, когда увеличение государственной казны происходило в основном за счет роста мировых цен на нефтепродукты, трудно было проверить эффект от снижения налогового бремени для отечественных производителей.
– Действительно, из-за предстоящего снижения размеров некоторых налогов расчетные потери бюджета в 2007 году составят 74 млрд. тенге, в 2008 – 146 млрд., в 2009 – 58 млрд. За три года республиканская казна по этой причине не получит примерно 10 бюджетов Костанайской области! Когда мы делаем подобные шаги, то требуем от правительства информацию по факту – что происходит в экономике. До сегодняшнего дня все ожидания оправдывались. Даже с превышением. Например, от снижения НДС с 20 до 15% ожидалось 49 млрд. тенге потерь, а бюджет, напротив, получил больше на 70 млрд. прибавки.
Что касается того, за счёт чего шла эта прибавка, тут вы в какой-то мере правы. Но факт остается фактом – бюджет не потерял. Теперь отделить эти средства будет легче. Что же касается реального влияния снижения налоговой нагрузки на развитие, то тут мы в первую очередь должны учитывать все преимущества, полученные от этой меры. Взять, к примеру, сельское хозяйство. Здесь сейчас налоговая нагрузка минимальная. Если взять любой район, у которого бюджет где-то около 500 млн. тенге, то сбор налогов, в ряде случаев, составляет около 200 млн. тенге. Все остальное – трансферты и субвенции из вышестоящего бюджета. У нас в стране это сделано с целью создания возможностей для развития сельского хозяйства, роста инвестиций в зерновой и животноводческий бизнес. И это приносит реальные выгоды. Вот потому-то наши соседи из Курганской области приезжали к нам, чтобы просить костанайских предпринимателей идти к ним со своими инвестициями. Российский бизнес не идёт в аграрный сектор. Почему? Потому что у них в селе пока нет необходимой инвестиционной привлекательности. У нас землю никто не бросит. Да, те, кто может вести дело финансово более эффективно, вытесняет тех, у кого это не получается, но землю никто не бросает. За неё скандалят, берут и дают взятки…
Это печально, за это надо судить, но объективно получается, что бизнес на земле у нас привлекательнее, чем в России. А это результат налоговых послаблений. Сельчане платят только 20% от всех налогов. Теперь мы на 70 % снизили НДС для переработчиков. В 2008 году уменьшаем на 30% и размер социального налога. Нужно, чтобы зарплата выходила «из тени». Люди должны получать отчисления на свой счёт в пенсионном фонде, увеличатся и поступления подоходного налога.
Дотации по справедливости
– Насколько сегодняшняя структура уплаты налогов в местный и республиканский бюджет стимулирует местные органы власти?
– Если вы имеете в виду возврат корпоративного налога с республиканского уровня на местный, то я бы не спешил с этим. Структура экономики нашей области такова, что мы бы от этого проиграли. Я вообще не сторонник внесения сейчас каких-то изменений в этом смысле. Другое дело, как распределяются средства из республиканского бюджета между регионами. Костанайская область по бюджетному обеспечению (количество бюджетных средств на одного жителя области) в 2003 году находилась на 14-м месте среди всех регионов республики. Это несправедливо. По данному поводу в 2004 году я был на приёме у Президента. Ведь от этого показателя во многом зависит уровень жизни людей, состояние социальной сферы. Чтобы нас выровнять по этому показателю, к примеру, с Акмолинской областью, наш бюджет должен получить в виде дотаций из республики 6 млрд. тенге.
Глава государства в послании этого года поставил задачу перед правительством – принять меры по выравниванию бюджетного обеспечения между регионами Казахстана. И я постараюсь убедить своих коллег по Парламенту, чтобы учесть это поручение при утверждении бюджета 2007 года.
Проверять нужно профессионально
– Насколько сейчас эффективно используются бюджетные средства?
– Такая проблема есть. Эффективность их расходования начинается с планирования. Нужно, чтобы в предлагаемых проектах было хорошо просчитано технико-экономическое обоснование. Для чего нужны деньги? Почему их нужно именно столько, и как они будут использоваться? Когда есть хорошо продуманные расчёты, тогда и легче оценивать их использование. В концепцию законопроекта по изменению бюджетного законодательства, который мы недавно приняли, был включён специальный пункт, гласящий, что нужно переходить к финансированию только обоснованных проектов. Используя при этом схему определения приоритетных проектов.
– Вас удовлетворяет общественный контроль за использованием бюджетных средств?
– Счётный комитет ежегодно предоставляет нам отчёт, в котором мы видим необоснованность некоторых расходов. Есть там и факты нецелевого использования бюджетных денег, а также случаи нарушений, по которым переданы материалы в следственные органы. Всё это никто не скрывает. Но, на наш взгляд, 40 человек, которые работают в Счётном комитете, не могут охватить весь объём работы.
– А на местном уровне?
– Если говорить о системе внутреннего контроля, то органы финансового контроля вывели из подчинения акимам и передали на уровень республики. Это должно дать положительный эффект. Что же касается внешнего контроля, куда вместе со Счётным комитетом входят и ревизионные комиссии маслихатов, то, на мой взгляд, им ещё не хватает прав. Их нужно расширять. Тем более что размеры бюджетов будут из года в год расти.
– Но это всё-таки органы государственного контроля. А что могут сделать общественники?
– Форм общественного контроля у нас много, но я не думаю, что нужно создавать вал непрофессиональных проверяющих. Нужно стремиться к тому, чтобы избранные народом люди – депутаты маслихатов и Парламента – имели больше прав для контроля. Ведь даже отчёты исполнительной власти, которые сейчас практикуются, зачастую проходят формально. Эти отчёты должны предваряться анализом ревизионных комиссий, органами финансового контроля. Например, Счётный комитет даёт нам полную картину. Так должно быть и на местном уровне.
«Наша газета», 27.07.2006
Триада министра Иванова.
Россия хочет определять «мировую повестку дня»
14 июля российские «Известия» опубликовали статью вице-премьера, министра обороны России Сергея Иванова «Триада национальных ценностей». Высокопоставленный чиновник попытался идеологически обосновать шаги, которые в последнее время предпринимает российское руководство для утверждения на мировой арене своего независимого политического курса. То, что данная попытка была сделана именно накануне открытия саммита «восьмёрки» в Санкт-Петербурге, вполне логично. Ведь зарубежная пресса в это время пестрела публикациями, остро критикующими российские власти за «отход от демократических ценностей», и почему бы не упредить желающих выпустить ядовитые стрелы в сторону российского президента на встрече глав развитых стран мира? Но почему эту миссию взял на себя именно руководитель военного ведомства?
Слагаемые триады
Если не брать во внимание теоретизирование на предмет чиновничьего понимания сути демократии, которым полна выше названная статья, то можно подумать, что министр обороны решил воспользоваться ситуацией, чтобы найти новые аргументы для увеличения расходов по содержанию армии. В условиях модернизации российского войска такие действия, возможно, и оправданны. Но всё дело в том, что данная публикация направлена не столько на отечественных законодателей, сколько на политиков других стран. Тех, кто не считается с правом России «самой, без подсказок со стороны решать, как именно надлежит строить жизнь в собственном доме». Ибо Россия уже сама определилась со своей «триадой национальных ценностей» и не нуждается в рекомендациях «некоторых любителей «чистой демократии».
Министр обороны Иванов выведенную им триаду составил из: демократии, экономики и военной мощи. Исходя из его общей концепции, демократия, конечно же, у него не «чистая», а «суверенная» – «подразумевающая право граждан самим определять политику в своей стране и защищать это право от внешнего давления любым, в том числе и вооружённым путём». И экономика – с обязательным прилагательным «сильная», которая вместе с удовлетворением материальных потребностей граждан должна и «обеспечивать высокий уровень обороноспособности страны».
Сдвиг по фазе
Откровенно говоря, такое болезненное внимание одного из силовых министров России к состоянию обороноспособности своей страны вызывает настороженность. Или мы чего-то в Казахстане не знаем и за убаюкивающими разговорами о единстве мировых держав в борьбе с мировым терроризмом кто-то «втихую» готовится к агрессии, или же российскому министру обороны, так же как когда-то его американскому коллеге Роберту Макнамаре, в окрестностях Москвы уже мерещатся колонны вражеских танков.
С главой Пентагона было проще – проблем с диагнозом у врачей не было. У нас же случай гораздо сложнее. Идеологический «сдвиг по фазе» у некоторых российских политиков, подкреплённый униженностью российского народа, которую он испытал во время работы ельцинской администрации, грозит перерасти в хроническую болезнь. К тому же она усиливается вечной тягой русских людей к миссионерству. Ведь стоило только России, нарастив объёмы экспорта нефти и газа, чуть-чуть «оклематься» от экономического кризиса, как её министр обороны в упомянутой статье заявляет: «Россия сегодня в полной мере вернула себе статус великой державы, несущей глобальную ответственность за ситуацию на планете и будущее человеческой цивилизации».
Нужен адекватный ответ
Дело в том, что никто не берёт на себя ответственность без того, чтобы не заполучить и какие-то права. А тут опять загвоздка. Я что-то не припомню, чтобы кто-то дрался за предоставление ему большей ответственности, что же касается расширения прав, то в этой области конфликтов больше чем достаточно. Вот и министр Сергей Иванов заявляет: «Каждая мировая держава сегодня – это не только границы, армия и экономика, но и особый идеологический проект, конкурирующий за право определять мировую повестку дня и дальнейшие перспективы развития всего человечества. Заявив о своем собственном идеологическом проекте, Россия тем самым вступила в жёсткую и бескомпромиссную конкурентную борьбу».







