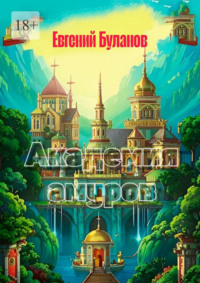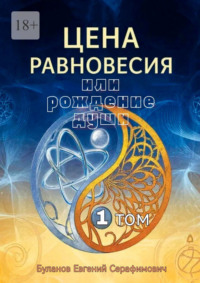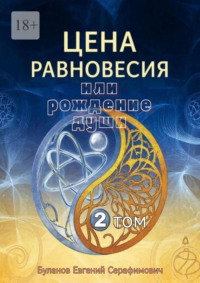Полная версия
Увидеть свет
Внезапно зазвонил телефон. Лиза бросилась к аппарату, как утопающий за соломинкой.
– Это г-н Чжан… Он настаивает…
Юлия выдернула шнур из розетки. Гудки умерли, оставив после себя вакуумную тишину.
– Вы понимаете, что делаете? – Шёпот Лизы слился с гулом кондиционера.
– Впервые за десять лет – да.
Она прошла к лифту, оставляя за спиной следы мокрых ботинок на идеальном паркете. Лиза металась между рассыпанным жемчугом и мигающим телефоном, похожая на сбитую с толку бабочку в террариуме.
Внизу, у выхода, швейцар в ливрее протянул зонт. Юлия покачала головой. Первые капли дождя упали ей на лицо, смешиваясь с чем-то солёным у уголков губ. Она шла, не оглядываясь, пока не упёрлась в чугунную ограду набережной.
В кармане зажужжал телефон – личный, не рабочий. Владимир: «Гроза скоро кончится. Приходи смотреть, как тучи рвутся на заплатки».
Она перевела взгляд на здание офиса – стеклянный монолит, где её отсутствие уже вызывало перебои в системе. Рука сама потянулась к кнопке вызова такси. Но вместо этого пальцы набрали: «Уже иду».
Дождь хлестал по спине, смывая лак с ногтей, размывая контуры строгого пучка. Где-то под мостом, в трущобах старого города, её ждал мужчина с краской под ногтями и умением превращать трещины в искусство.
Запись в дневнике 23:11:
«Сегодня я разбила часы.
Время вытекло серебряной лужей.
Я – не стрелки. Я – птица,
что пьёт дождь из разбитого неба».
Тайна старого фото
Мастерская Владимира пахла льняным маслом и пылью веков. Солнечный луч, пробившийся сквозь запылённое окно, выхватывал из полумрака ящики с кистями, банки с позолотой и фотографию, приколотую к пробковой доске. Юлия разглядывала снимок: Владимир, лет на десять моложе, держал на плечах девочку с косичками. Оба смеялись так, что глаза превратились в щёлочки, а рот Владимира, обычно поджатый в ироничную ниточку, был широко распахнут.
– Моя племянница, Аня, – он поставил на стол кружку цикория, брызги попали на палитру с охрой. – Ей семь. Она считала, что я умею летать.
Юлия прикоснулась к уголку фотографии. Бумага выцвела, но энергия смеха била через край. Она вдруг поняла: не помнит ни одного своего фото, где бы смеялась по-настоящему. На корпоративных снимках – улыбка в три зуба. На светских раутах – прикрытый веером рот. Даже в детском альбоме – сжатые губы после замечания матери: «Девушки не хохочут как лошади».
– Как это – не знать своего смеха? – Владимир достал из ящика зеркало в раме с отбитым уголком. – Посмотри.
Юлия увидела своё отражение: брови чуть приподняты, губы напряжённо сомкнуты. Она попыталась расслабить лицо, но получилась гримаса, как у человека, впервые пробующего экзотический фрукт.
– Не заставляй. Смех рождается здесь. – Он ткнул пальцем ей в грудь, чуть левее жемчужной броши. – А не в зеркале.
За окном забарабанил дождь. Владимир взял кисть, начал подрисовывать нимб ангелу на потёртой иконе. Юлия же разглядывала фото, ловя себя на мысли, что завидует девочке. Та, судя по всему, даже не пыталась скрыть отсутствие переднего зуба.
– Мама говорила, смех старит, – проговорила она вдруг. – В семнадцать я тренировалась перед зеркалом: уголки губ на сантиметр вверх, не больше.
Владимир повернулся, оставив кисть в банке с растворителем. Жидкость медленно окрашивалась в кроваво-красный.
– А если попробовать сейчас? Без зеркала. Без правил.
Она покачала головой, но уголки губ дрогнули. Владимир вдруг щёлкнул выключателем. Свет погас, остался только блик от уличного фонаря на мокром стекле.
– Темнота – лучший союзник. Здесь никто не увидит, даже ты.
Юлия почувствовала, как смех подступает снизу – невесомый пузырь, вырывающийся из запретной зоны. Первый звук напоминал кашель. Второй – всхлип. Потом её тряхнуло, будто вывернуло наизнанку. Она смеялась над абсурдом – над годами застёгнутой на все пуговицы жизни, над страхом оказаться «неидеальной», над тем, что потребовался чужой детский снимок, чтобы понять: её собственная радость похоронена под слоем перламутрового лака.
Когда свет зажёгся, Владимир протянул ей мокрую от дождя ветку сирени.
– Вот твой смех. Дикий. Непричесанный. Прекрасный.
На обратной стороне фотографии она позже нашла надпись: «Помни, тётя Лиза: летать может каждый, если перестать бояться высоты». Юлия провела пальцем по буквам, представляя, как девочка с косичками теперь, наверное, её ровесница. И, возможно, тоже где-то учится смеяться заново.
Ужин с ошибкой
Кафе «У дяди Вити» ютилось между автомастерской и круглосуточным магазином. Вывеска мигала жёлтым неоном, отражаясь в лужах с радужными разводами машинного масла. Пластиковые стулья, прикруплённые цепями к полу, скрипели под порывами ветра. Владимир толкнул дверь, звякнув колокольчиком, от которого отвалилась половина бубенчика.
– Здесь подают лучшую картошку в городе, – заявил он, смахивая крошки с липкого столика. – Правда, последний санитарный проверял их в 90-х.
Юлия приподняла край бумажной салфетки с надписью «С Новым Годом!». Под ней прятались пятна, похожие на континенты неизвестной страны. Она привыкла к стерильным ресторанам с тихой музыкой, где официанты читают мысли. Здесь же пахло жареным маслом и свободой – резкой, как уксус.
Официантка с синим маникюром швырнула меню. Владимир заказал, не глядя:
– Две порции картошки фри и кофе, который не отличить от асфальта.
Юлия потрогала вилку с погнутыми зубцами. Её пальцы дрогнули – привычка проверять чистоту.
– Не умрёшь, – он перехватил её взгляд, обмакивая кусок хлеба в общую горчичницу. – Иногда грязь полезнее стерильности.
Картошка пришла в металлической миске, заляпанной жиром. Ломтики кривые, местами подгоревшие. Юлия поднесла один к губам, вспомнив мамины уроки: «Еда – топливо, а не удовольствие». Хруст. Соль. Тёплый пар, обжигающий язык. Она замерла, ощущая, как вкус разливается по нёбу – грубый, наглый, настоящий.
– Ну как? – Владимир облокотился на стол, сдвинув солонку.
Слёзы подступили неожиданно. Она засмеялась, давясь картошкой и слезами.
– Я… я забыла, что это вкусно – быть живой.
Он рассмеялся вместе с ней, вытирая жирный палец о джинсы. За соседним столиком подростки стреляли картофелем друг в друга, пока повар в засаленном фартуке орал из-за стойки. Шум, гам, жизнь – неотредактированная, как старый фильм с порванной плёнкой.
Владимир вдруг потянулся через стол, стёр с её щеки крошку.
– Вот ты какая. Настоящая.
Она почувствовала, как горит ухо под прядью выбившихся волос. Неловкость? Нет. Облегчение. Будто сбросила корсет, который носила двадцать лет.
– В детстве я воровала хот-доги у уличных ларьков, – сказала она вдруг, крутя соломинку в стакане с «колой», которая пахла лекарством. – Потом мама застала и…
– Отшлёпала линейкой по пальцам?
– Подарила годовую подписку на «Экономист». Сказала: «Голодные мыслители меняют мир».
Он фыркнул, рисуя на салфетке каракули. Получился смешной человечек с крыльями из картофелин.
– Моя мать выгоняла меня голым на балкон за двойки. – Он смял рисунок, бросил под стол. – Теперь я каждую зиму сажаю цветы на том балконе.
Юлия посмотрела на свои ладони – без жемчуга, без часов, с жирным отпечатком от миски. Впервые за годы они не дрожали.
– Эй, любовники! – Официантка швырнула чек. – Закрываемся.
На улице дождь сменился мокрым снегом. Юлия шлёпала по лужам, не уклоняясь. Владимир нёс её туфли – каблуки сломались, когда она пнула банку из-под колы.
– Знаешь, почему картошка здесь вкусная? – Он остановился под фонарём, где снежинки танцевали в световом круге. – Потому что её готовят без страха.
Она засмеялась снова, и смех вырвался лёгким паром в морозный воздух. Без зеркал. Без правил. Просто звук, рождённый где-то между рёбрами.
В кармане зажужжал телефон – мать. Юлия выключила его, спрятав в коробочку от картошки. Завтра будут скандалы, ультиматумы, штрафы за срыв сделок. Но сейчас, под снегом, превращающим город в чёрно-белое кино, она впервые чувствовала себя героиней своей жизни, а не статистом в чужом сценарии.
Письмо к себе
Дневник лежал раскрытым на старом чердаке, куда Юлия забралась впервые за годы. Пыль висела в луче света, как застывшие ноты забытой мелодии. Сквозь слуховое окно пробивался ветер, шевеля страницы книги Рильке, которую Владимир подарил ей неделю назад. На полях всё ещё виднелись его пометки – стрелки, ведущие от чужих слов к её собственным мыслям.
Юлия прижала колени к груди, обхватив их руками. Холод деревянных досок просачивался сквозь тонкую ткань платья, но она не спешила уходить. Здесь, среди коробок с детскими игрушками и потёртых чемоданов, время текло иначе. Мягко. Без секундомеров.
Она провела пальцем по пустой странице, оставляя след в пыли. Чернильная ручка, подаренная отцом перед тем, как он ушёл, дрожала в её пальцах. Капли дождя за окном отбивали ритм, под который она вывела первые слова:
«Он не влюбляет в себя. Он заставляет влюбиться в мир».
Буквы расплывались, будто сопротивляясь строгости линий. Юлия засмеялась тихо – тем смехом, который Владимир называл «диким». Звук эхом отразился от стропил, потревожив голубя, спавшего в углу. Птица взметнулась к окну, сбросив перо. Оно упало на страницу, став живой точкой над «i».
Внутренний монолог:
«Любить мир – это видеть трещины в фасадах и знать, что через них прорастёт трава. Это слышать, как дождь отмывает асфальт от лжи. Это…»
Она закусила губу, смахнув внезапные слёзы. «Это наконец понять, что мама ошиблась: слабость не в том, чтобы чувствовать, а в том, чтобы бояться чувствовать».
Шум мотоцикла на улице заставил её вздрогнуть. Владимир обещал приехать к вечеру, привезти краски для фрески в заброшенной часовне. Но вместо радости в груди ёкнуло – страх, что новый мир окажется миражом. Юлия потянулась к коробке с детскими вещами. На дне лежала кукла с оторванной рукой – подарок отца на пятый день рождения. Она прижала её к себе, вдыхая запах нафталина и воспоминаний.
«Папа, я всё ещё боюсь», – написала она ниже, затем зачеркнула. Слова Владимира всплыли в памяти: «Страх – это компас. Показывает, где спрятано настоящее».
Внезапно скрипнула дверь. На лестнице мелькнул силуэт. Юлия замерла, узнавая резкие шаги. Мать.
– Ты что тут делаешь? – Голос, как всегда, резал воздух. – Твой секретарь звонил. Ты сорвала переговоры с китайцами. Опозорила меня.
Юлия встала, не выпуская дневник из рук. Пыль осела на её чёрное платье, превратив в старую фреску.
– Я не хочу быть твоим продолжением, – проговорила она чётко, будто отрепетировав это годами. – Я хочу быть своей ошибкой. Своим… – она посмотрела на перо, – своим полётом.
Мать сделала шаг назад, будто от удара. В её глазах мелькнуло что-то хрупкое – страх? Раскаяние? Но уже через мгновение лицо снова стало маской.
– Тогда уходи. Навсегда.
Дверь захлопнулась. Юлия опустилась на пол, прижав дневник к груди. На странице, где лежало перо, проступили капли – дождь снаружи или слёзы? Она дописала дрожащей рукой:
«Любить мир – это позволить ему ранить. Потому что только сквозь раны входит свет».
Снизу донёсся рёв мотора. Владимир махал рукой из-под козырька, весь в брызгах грязи. За ним, на прицепе, болтались вёдра с краской, обрывки холстов и – она присмотрелась – огромный зонт в горошек, словно украденный из старой комедии.
Юлия спустилась, оставив дневник открытым на чердаке. Перо взлетело в порыве ветра, прилипнув к мокрому стеклу. На улице Владимир, не дав ей заговорить, сунул в руки кисть:
– Поможешь оживить ангела. У него твои глаза.
Она коснулась его ладони, ещё пахнущей бензином и надеждой. Мир вокруг больше не был клеткой – он стал холстом. И впервые за всю жизнь Юлия захотела не контролировать мазки, а чувствовать их.
Скандал на работе
Конференц-зал сиял холодным блеском. Глянцевый стол отражал лица коллег, искажённые гримасой осуждения. Юлия стояла у экрана с погасшей презентацией, сжимая пульт так, что трещали швы пластика. На слайде застыла диаграмма с красным провалом – сорванная сделка из-за её отсутствия на переговорах в Шанхае.
– Юлия Сергеевна, ваше поведение ставит под удар репутацию компании, – директор по маркетингу, мужчина с поджатыми губами и часами за полмиллиона, стукнул карандашом по графику. – Вы пропустили три встречи, проигнорировали…
– Живых людей, – перебила Юлия. Голос звучал чужим, низким, будто пробивался сквозь ржавую решётку. – Вы хотели сказать – проигнорировала живых людей.
В углу Лиза ёрзала, пряча лицо за планшетом. Её новая блузка – точная копия той, что носила Юлия год назад – теперь казалась пародией.
– Мы не детский сад для сантиментов, – фыркнула глава HR, женщина с уколами ботокса, заморозившими недовольство в морщинах. – Ваша «творческая пауза» обошлась нам в…
– В двадцать миллионов, – закончил финансовый директор. Цифра повисла в воздухе, как гильотина.
Юлия посмотрела на свои руки – без колец, с пятном зелёной краски на мизинце, оставшимся после вчерашней работы с Владимиром над фреской. Край пульта впился в ладонь.
– Вы стали ненадёжны, – продолжил директор. – Как этот ваш… художник.
Слово «художник» прозвучало как диагноз. Коллеги переглянулись. Кто-то сдержанно кашлянул. Юлия ощутила знакомый привкус железа – язык прикусила, чтобы не закричать сразу.
Внутренний монолог:
«Скажи им. Скажи, что надёжность – это гроб для души. Что их графики убивают больше, чем войны. Что ты наконец-то проснулась».
– Я не робот! – её крик разбил тишину, как молоток витрину. – Я не программа, не алгоритм! Я…
Она схватила вазу с искусственными орхидеями – подарок клиента из Тайваня – и швырнула в стену. Пластиковые лепестки рассыпались, вода растеклась по паркету, повторяя контуры острова, которого нет на картах.
– Вы все… вы все мертвецы в костюмах! – Юлия задыхалась, рвя на шее шёлковый шарф. – Вы боитесь дышать полной грудью, потому что лопнут швы!
В дверях замерли сотрудники с бумагами. Лиза уронила планшет – экран треснул, выпустив на свободу цифры из квартального отчёта.
– Успокойтесь, – директор поднял руку, будто останавливая бунтующего пса. – Иначе мы вынуждены будем…
– Уволить? Сделайте одолжение! – Юлия сорвала с шеи бейдж, швырнула его на стол. Пластик приземлился в лужу, превратив её лицо на фото в абстракцию. – Ищите другого раба для ваших графиков.
Она вышла, хлопнув дверью так, что с полки упала статуэтка «Лучшему менеджеру-2022». Бронзовый торс разбился, обнажив полый центр.
Послесловие:
В туалете, дрожащими руками смывая следы туши, Юлия услышала за дверью кабинки шёпот:
– Безумная… Совсем крыша поехала…
– Зато живая, – ответил другой голос, молодой, дрожащий. – Завидую безумно.
На зеркале кто-то вывел помадой: «Беги!» Стрелка указывала на окно. Юлия распахнула его, вдохнув воздух, пахнущий бензином и свободой. Внизу, у подъезда, Владимир разгружал мольберты из разбитого фургона. Увидев её, поднял руку с кистью вместо приветствия. На щеке – мазок охры, как боевая раскраска.
Она спустилась по пожарной лестнице, не чувствуя высоты. Первый шаг к земле – самый страшный. Второй – уже полёт.
Ночь в музее
Музей спал. Свет уличных фонарей пробивался сквозь высокие окна, превращая залы в лабиринт теней. Владимир провёл Юлию через чёрный ход, щёлкнув замком отмычкой. В его движениях не было бравады – скорее, привычка нарушать правила ради чего-то большего.
– Тихо, – шепнул он, хотя вокруг не было ни души. – Здесь ночью картины говорят громче.
Они вышли в зал современного искусства. Лунный свет скользил по абстрактным полотнам, оживляя мазки краски. Инсталляция из ржавых труб бросала на стену узор, похожий на карту неизвестной планеты. Юлия шла медленно, чувствуя, как каблуки тонут в ковре, сотканном из лоскутов цитат философов.
– Смотри, – Владимир остановился перед холстом, изрезанным трещинами. Золотая краска мерцала в разломах, будто лава под коркой земли. – Его создавали, бросая на пол. Сотни раз. Пока основа не начала сопротивляться.
Она прикоснулась к стеклу витрины. Холодный барьер отделял её от шедевра, который больше напоминал руины.
– Зачем сохранять то, что сломалось?
– Потому что сломанное – это правда, – он взял её руку, повёл дальше.
В центре зала висела люстра из битого стекла. Осколки, связанные медной проволокой, бросали на стены звёздный дождь. Владимир запустил пальцы в луч света, и тень его кисти легла на стену, словно крыло.
– Здесь все как ты, – сказал он, не глядя. – Все видят идеальные линии. А я…
Он подвёл её к зеркальной инсталляции. Тысячи осколков отражали лицо Юлии – каждый под своим углом. В одном она была строгой бизнес-леди, в другом – девочкой с растрёпанными волосами.
– Ты как эти картины, – Владимир дотронулся до трещины, разделившей её отражение пополам. – Все видят совершенство. А я – трещины, где прячется свет.
Юлия замерла. Слова висели в воздухе, как дым после фейерверка. Она обернулась к полотну позади – огромному чёрному квадрату с едва заметной царапиной по центру.
– Это же Малевич?
– Подделка. – Он усмехнулся. – Настоящий хранится в запаснике. Но эта… – провёл пальцем по пыльной раме, – ценнее. Видишь?
Присмотревшись, она разглядела в царапине микроскопические буквы: «Спасибо, что заметил».
– Кто…
– Сторож. Бывший физик. Каждую ночь оставляет послания там, где их никто не ищет.
Они сели на ступени у скульптуры, собранной из старых клавиатур. Владимир достал термос с кофе, пахнущим корицей и бензином.
– Когда Лиза умерла, я неделю жил здесь. – Он кивнул на зал с фресками. – Реставрировал ангела, у которого откололось крыло. Ночью он шептал: «Лети сама».
Юлия прижала ладони к холодному полу. Где-то в глубине здания скрипнула дверь.
– Я боюсь, – призналась она впервые вслух. – Боюсь, что мои трещины не смогут удержать свет.
Он повернул её лицо к зеркальной инсталляции. Трещины теперь сверкали золотом, как реки на карте сокровищ.
– Они не должны удерживать. Они проводят его.
На рассвете, покидая музей, Юлия заметила на полу у выхода холст-невидимку – чистое полотно с подписью в углу: «Нарисуй сама». Владимир, смеясь, сунул ей в карман кисть.
– Твоя очередь оставлять послания.
По дороге домой она купила баллончик золотой краски. Первую трещину – на идеально отполированном фасаде своего офиса – Юлия превратила в ветвь дерева. На стволе вывела: «Расти отсюда».
Разговор с матерью
Гостиная матери напоминала зал суда. Хрустальные люстры, портреты в позолоченных рамах, диваны с натянутыми, будто натянутыми нервами, чехлами. Юлия стояла у камина, где вместо огня лежали искусственные угли – мерцающие LED-лампочки. Даже тепло здесь было подделкой.
Мать сидела в кресле с прямой спинкой, как будто прикованная к трону. Её пальцы перебирали жемчужное ожерелье – точную копию того, что Юлия разорвала в офисе.
– Ты разрушаешь всё, что мы строили, – голос матери напоминал скрип пера по пергаменту. – Двадцать лет дисциплины, жертв… ради прихоти?
Юлия коснулась мраморного камина. Холод проникал под кожу, как когда-то – её детские страхи. Она вспомнила, как в десять лет спрятала дневник с пятёркой по рисованию. Мать нашла, порвала: «Это не приведёт тебя в совет директоров».
– Ты называла это «строительством», – Юлия повернулась, ловя своё отражение в зеркале во весь рост. На ней были джинсы с пятнами краски, свитер Владимира с выгоревшими локтями. – Но что, если это была не крепость, а тюрьма?
Мать замерла. Жемчужины зашелестели, будто змеиное предупреждение.
– Тюрьма? – она поднялась, поправляя безупречный шов на юбке. – Тюрьма – это мир снаружи. Где тебя сожрут, если замедляешь шаг. Я дала тебе ключи от свободы.
– От «своей» свободы! – Юлия сжала кулаки, чувствуя, как под ногтями впивается старая заноза – щепка от мольберта Владимира. – Ты строила клетку и называла её троном.
Тишину разрезал бой часов – массивных, привезённых из Лондона. Каждый удар отзывался в висках. Мать подошла к окну, распахнула шторы. Улица внизу кипела жизнью, которой здесь никогда не позволяли просочиться внутрь.
– Ты думаешь, он тебя любит? – спросила она вдруг, мягко, как будто проверяя лезвие ножа. – Этот… художник. Он видит в тебе бунт. Новую игрушку. А когда надоест —
– Перестань. – Юлия перебила её впервые в жизни. – Ты не знаешь, что такое любовь. Ты даже папу прогнала за то, что он подарил мне куклу вместо калькулятора.
На портрете над диваном отец смотрел пустыми глазами. Мать дёрнула уголок губ – неудавшаяся попытка улыбки.
– Любовь – роскошь для слабых. Я сделала тебя сильной.
– Сильной? – Юлия рассмеялась, и звук разбил хрустальную вазу на консоли. Осколки упали на паркет, смешавшись с тенями. – Ты сделала меня пустой! Я выигрывала тендеры и теряла себя.
Она достала из кармана смятый листок – детский рисунок из музея. На обороте Владимир написал: «Даже шторм начинается с трещины в стекле».
– Посмотри на это, – протянула она матери. – Это я. Настоящая.
Мать взяла листок кончиками пальцев, будто он был заражён. Её глаза пробежали по каракулям, остановились на подписи.
– Ты хочешь быть «этим»? – она бросила рисунок в камин. Без огня бумага легла на холодные «угольки», как белый флаг. – Жалкой тенью с кисточкой вместо меча?
Юлия подошла к выходу. Рука на бронзовой ручке двери дрожала, но спина была прямой.
– Нет. Я хочу быть человеком, а не твоим проектом.
На улице её ждал Владимир, прислонившись к фургону с отваливающейся краской. В руках он держал старую куклу – ту самую, с оторванной рукой, которую Юлия оставила на чердаке.
– Нашёл у мусорных баков, – ухмыльнулся он. – Решил, ей нужна компания.
Она взяла куклу, прижала к груди. Сзади, в окне гостиной, мелькнула тень – мать наблюдала, скрытая шторами. Юлия помахала ей куклой, как когда-то в пять лет. Потом села в фургон, где пахло масляной краской и дорогами, которые не нанесены на карты.
Ночью Юлия вернулась за рисунком. Камин был пуст, но на мраморной полке лежала жемчужина из разорванного ожерелья. Материнский почерк на обороте: «Храни. На всякий случай».
Она оставила жемчужину среди угольков – алмазом в искусственном пепле.
Сон о падении
Сон начался с тишины. Юлия стояла на пьедестале из белого мрамора, её тело – холодная, отполированная до блеска статуя. Вокруг простирался город из стекла и стали, где небо отражалось в фасадах небоскрёбов, как в гигантских зеркалах. Люди внизу, мелкие и чёрные, как муравьи, фотографировали её, шепча: «Идеальная. Неприкосновенная». Но внутри мрамора пульсировала боль – трещина, начавшаяся у сердца, медленно ползла вверх, к горлу.
Она попыталась закричать, но каменные губы не дрогнули. Трещина добралась до глаза, и вдруг пьедестал рухнул. Падение длилось вечность. Стеклянные здания бились осколками, ветер выл в ушах. В последний миг она увидела своё отражение в витрине – не статую, а человека, с распахнутыми руками и лицом, искажённым не страхом, а свободой.
Проснулась от собственного крика. Комната Владимира, залитая утренним светом, встретила её запахом кофе и масляной краски. На столе у окна стояла разбитая керамическая ваза, которую они накануне склеивали золотым клеем – трещины блестели, как жилы драгоценной руды.
– Опять тот сон? – Владимир сидел на полу, собирая мозаику из осколков зеркала. Его руки двигались уверенно, будто хаос был лишь ещё одной формой порядка.
Она кивнула, прижимая ладонь к груди, где всё ещё ныло от удара о мнимую землю.
– Падала. Разбивалась. Но… – она подошла к окну, где на подоконнике рос кактус, пробившийся сквозь трещину в горшке. – Это было похоже на полёт.
Он поднял голову, и в его глазах мелькнуло что-то знакомое – то же, что она видела в своём отражении во сне.
– Знаешь, почему я люблю собирать разбитое? – Он поднял осколок, поймав в нём солнечный зайчик. – Потому что только через трещины видно, что внутри.
Она взяла кусок зеркала. В нём её лицо было раздроблено на десятки частей: здесь – глаз с морщинкой, там – непослушная прядь волос, в другом осколке – родинка, которую мать называла «дефектом». Но вместе эти осколки складывались в целое – живое, неидеальное, её.
– Мать говорила, падение – это провал, – проговорила Юлия, поворачивая осколок в руках.
– А я говорю: это начало, – он встал, стряхнув с джинсов пыль. – Пока мы падаем, мы меняем форму. Застываем – умираем.
Он взял её руку, вывел на пожарную лестницу. Город шумел внизу, но здесь, на высоте пятого этажа, ветер носил запахи далёких мостовых и чьих-то непрожитых жизней.