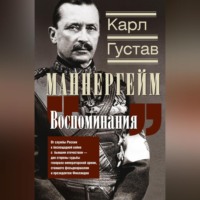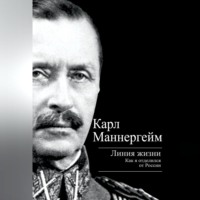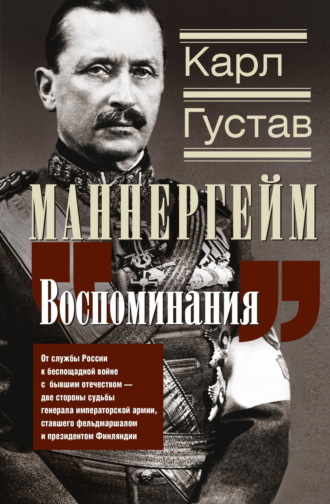
Полная версия
Воспоминания. От службы России к беспощадной войне с бывшим отечеством – две стороны судьбы генерала императорской армии, ставшего фельдмаршалом и президентом Финляндии
Когда в 1901 году командир гвардейского Кавалергардского полка генерал фон Грюнвальд был назначен обер-шталмейстером, он предложил мне интересную должность под своим началом. Хотя я был очень счастлив в Кавалергардском полку, но не мог устоять перед искушением полностью посвятить себя своему главному увлечению – лошадям, а в императорских конюшнях их было более тысячи. Кроме того, полковничье жалованье и квартира в самом фешенебельном районе Петербурга были соблазном для молодого офицера с небольшими личными средствами. Еще одним фактором, побудившим меня согласиться на эту должность, были командировки, дававшиеся мне для закупки лошадей. Эти поездки, одновременно поучительные и интересные, привели меня в Германию, Австро-Венгрию, Францию, Бельгию и Англию. В одном из венгерских конезаводов, которые я посетил, мой брат приобрел лошадей для своего шведского конезавода. Любовь к лошадям у всех нас в крови.
Во время одной из таких поездок в Германию я получил первую серьезную травму. Прусский шталмейстер граф фон Ведель пригласил меня осмотреть императорские конюшни в Потсдаме, где одна из императорских лошадей взбрыкнула и сломала мне колено. Личный врач императора профессор Бергман с серьезным видом покачал головой. Коленная чашечка была сломана в пяти местах, и колено оставалось неподвижным. Он утешил меня, сказав, что, даже если мне будет трудно командовать эскадроном, я смогу командовать полком и что ничто не помешает мне стать выдающимся генералом. Ну а для меня это означало два месяца пребывания в постели, после чего благодаря массажу и упражнениям колено более или менее пришло в норму. Если имеешь дело с лошадьми, такие травмы неизбежны, но эта, безусловно, была худшей из тринадцати случаев, когда я ломал пару костей.
За несколько дней до моего отъезда из Берлина я был приглашен на обед к императорской семье. Очаровательное обхождение императора Вильгельма II с таким младшим офицером, как я, а также его веселый нрав произвели на меня большое впечатление. Тогда же я имел честь познакомиться и с императрицей. Как раз перед тем, как двери в столовую распахнулись, вошла императрица, сопровождаемая придворной дамой, на которой, в соответствии с этикетом, была длинная черная вуаль. Император поддерживал оживленную беседу, что не мешало ему быстро есть. Как только он заканчивал блюдо, все тарелки убирались.
У меня никогда не было намерения отказываться от военной карьеры, и, получив в 1903 году звание капитана, я подал прошение о разрешении вернуться в армию. Кавалергардский полк вряд ли мог предложить мне какой-либо новый опыт, и поэтому я попросил направить меня в Офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Там меня назначили командиром так называемого образцового эскадрона, должность давала определенную независимость, а также жалованье и привилегии командира полка.
Начальником школы, где офицеры проходили как техническую, так и тактическую подготовку, был уже известный генерал от кавалерии Брусилов, которому в Первую мировую войну суждено было одержать много побед как командующему армией. Начальником он был проницательным и суровым, но научил нас многому ценному. Его тактические упражнения как в школе, так и в полевых условиях были в своем роде образцовыми и вызывали большой интерес, также я был рад снова встретиться с моим бывшим учителем, одним из величайших авторитетов в области современного конного спорта Джеймсом Филлисом, работавшим в ту пору в школе.
Мою службу прервало начало Русско-японской войны, на которую я пошел добровольцем[1]. Генерал Брусилов этого решения не одобрял, считая, что нет никакой нужды участвовать в столь незначительной драке. Он убеждал меня передумать и готовиться к более крупной войне, которая вскоре разразится и может перерасти в мировую. Но я его уговорам не поддался. Тем не менее прошло немало времени, прежде чем военная машина сработала, и в феврале 1904 года, через полгода после начала войны, я ушел на фронт подполковником Нежинского гусарского полка.
Глава 2
Русско-японская война 1904—1905 годов
Русско-японская война. – Революция 1905 года и ее последствия в Финляндии. – Последняя встреча четырех сословий
Хотя для русского народа начало войны стало полной неожиданностью, оно было логическим итогом цепочки событий, о которых стоит вспомнить, поскольку они помогают лучше понять современное соперничество между великими державами и в особенности последовательные попытки России и Японии включить богатейшие территории Дальнего Востока в свои сферы влияния за счет Китая.
В конце 1880-х годов Россия, внешней политикой которой тогда руководил князь Лобанов-Ростовский, сыграла стабилизирующую роль в Европе и на Дальнем Востоке. Столкнувшись с угрожающей экспансией Японии, которая уже достигла Южной Маньчжурии, Россия при поддержке Франции и Германии настаивала на восстановлении суверенитета Китая в Маньчжурии и в конце концов добилась этого. Японские войска были вынуждены оставить страну и отступить в Корею. Наградой России стала концессия на строительство и эксплуатацию так называемой Китайско-Восточной железной дороги, проходящей через Маньчжурию и соединявшую Сибирь с Владивостоком. Однако при преемнике Лобанова-Ростовского графе Муравьеве в политике России произошел полный разворот.
В 1898 году Китай был вынужден предоставить России в аренду сроком на двадцать пять лет военно-морскую базу Порт-Артур, конечную станцию Южно-Маньчжурской железной дороги, а кроме того, согласиться на соединение этой железной дороги с новой Китайско-Восточной железной дорогой. Реакция Китая на это нарушение его суверенитета выразилась в Боксерском восстании в 1900 году, которое, однако, было направлено против всех иностранных государств. Подавление этого восстания дало России возможность оккупировать всю Маньчжурию. Япония согласилась эвакуироваться из Маньчжурии поэтапно, но, когда от нее потребовали выполнения этого обещания, у Японии появились все основания опасаться дальнейшего продвижения России в направлении Кореи. Кризис обострялся с каждым годом. Но ни протесты Японии, ни тот факт, что Англия, опасаясь российской агрессии в направлении Индии, в 1902 году заключила союз с Японией, всерьез не рассматривались. Россия вполне полагалась на стабильность, которая, как считалось, была достигнута благодаря легким дипломатическим успехам последних лет.
В конце декабря 1903 года японский посол представил ноту, в которой были повторены предыдущие предложения Японии о разделе сфер интересов на Дальнем Востоке: Маньчжурия – России, Корея – Японии. Ответ был запрошен не позднее 7 января. Шли недели, и в Токио росло нетерпение. Российская нота была готова только в феврале, и, вероятно, она была такого характера, что после ее получения у Японии не было ни необходимости, ни морального права прибегать к оружию.
Следует, однако, признать, что этот примирительный ответ последовал только после особенно высокомерного отношения к японским демаршам. До того как был представлен российский ответ, японский посол, вероятно прекрасно понимая его суть, отбыл в Германию. Япония приняла решение о военных действиях, и в ночь на 9 февраля 1904 года без какого-либо предварительного объявления войны японцы атаковали и вывели из строя русскую эскадру в Порт-Артуре. Переброска японских войск на материк могла проходить беспрепятственно, а русские гарнизоны в Маньчжурии были слишком слабы, чтобы угрожать японскому плацдарму в Корее.
Вскоре после этого другая катастрофа окончательно уничтожила русский Тихоокеанский флот как имеющий какое-либо значение фактор. Флагманский корабль адмирала Макарова «Петропавловск» подорвался на мине и затонул вместе с лучшим моряком России и тысячью офицеров и матросов. Из трех выживших один был двоюродным братом царя, великим князем Кириллом, и его почти чудесное спасение многие приписывали вмешательству высших сил, желавших сохранить его для выполнения великих задач в Российской империи.
Это бедствие вызвало большой гнев и возмущение во всех слоях общества, но общая атмосфера казалась какой-то искусственной и вряд ли была вызвана каким-либо возвышенным патриотизмом. Правда, жители Петербурга неоднократно приветствовали царя патриотическими песнями, но фактически выражения общественного мнения не было. Возможно, это было связано с тем, что театр военных действий находился слишком далеко, а также с неправильной оценкой ресурсов противника. Кроме того, было мало знаний или понимания интересов России на Дальнем Востоке. Примечательно, что при отправке войск на фронт было пролито мало слез. Общее мнение было таково, что «колониальная война скоро закончится, и маленькие японцы будут побеждены». Бесспорным фактом было то, что Российский Генеральный штаб недооценил силу японской армии и патриотический дух японской нации. Примерно за год до начала войны русский военный атташе в Токио выразил в своем донесении мнение, что «могут пройти столетия, прежде чем японская армия будет опираться на моральную поддержку, которая составляет основу организации армий в Европе, или даже сможет достичь уровня самой слабой европейской армии». Аналогичные мнения были высказаны и в других донесениях.
Однако вскоре правительство осознало, что война приняла угрожающий характер и что на далекой железной дороге недостаточно войск. Проблема заключалась в том, как доставить необходимое количество войск и припасов в Маньчжурию, расположенную почти в трех тысячах миль от центра России, по узкоколейной и технически неудовлетворительной железной дороге. Трудности задачи усугублялись тем фактом, что прямую линию прерывало озеро Байкал. Летом войска приходилось переправлять на баржах за тридцать миль, а погрузка и высадка были делом медленным. Зимой по льду озера ходили поезда. Ближе к концу войны вокруг озера построили кольцевую дорогу.
Когда в начале сентября 1904 года я прибыл на службу в свой новый полк, только что состоялось сражение при Ляояне, и русская армия была вынуждена отступить на укрепленные позиции к югу от Мукдена. 52-й Нежинский гусарский полк, к которому я присоединился в качестве младшего штабного офицера, стоял в тылу правого фланга армии.
С самого начала боевых действий войска ждали подкреплений, боеприпасов и провианта, и бездеятельность, которую это влекло за собой, пагубно сказалась на моральном духе солдат.
В течение этого времени японцы полностью владели инициативой, и русские не смогли вырвать ее у них на протяжении оставшейся части кампании. Таким образом, у русских были только неудачи, начиная с форсирования реки Ялу и заканчивая падением Мукдена. Наибольшая личная вина, без сомнения, лежала на пассивном и нерешительном генерале Куропаткине, но ведение войны было вдвойне затруднено из-за двойного командования. Демаркация полномочий предоставлялась вице-королю трех восточных провинций. Отношения между адмиралом Алексеевым и главнокомандующим были недостаточно ясными, в результате оба постоянно вмешивались в дела друг друга и жаловались императору. Даже между другими командующими возникали споры и интриги.
Практически все начинания, предпринимавшиеся в основном при недостаточных средствах, были обречены на провал. Общей характеристикой ведения русскими войны было бессистемное создание крупных подразделений из небольших. Казалось, Верховное командование пыталось придать себе мужества, когда перед крупной операцией создавало новые формирования на основе старых. Конечно, это был чистый самообман, поскольку этим импровизированным подразделениям недоставало координации и сплоченности, и очевидно, что подобное ведение боевых действий ослабляет армию. В этой ситуации многие зарекомендовавшие себя умелыми и храбрыми командиры были обречены на провал. Моральный дух продолжал падать, в войсках участилось пьянство. Леность, безразличие и другие виды небрежения имели место во всех подразделениях и еще больше ослабляли армию.
Я прибыл энергичный и исполненный решимости исправить, насколько в моих силах, такое положение дел. Несмотря на царящую в полку апатию, мне удалось заинтересовать молодых офицеров выездами по пересеченной местности, что на какое-то время избавило их от пьянства и безделья. Иногда у меня появлялась возможность отправиться верхом на передовую в разведку одному. Однажды, когда я осматривал важный передовой пост, мое рвение и новенькая форма привели к тому, что меня заподозрили в шпионаже и отправили в штаб дивизии. Поскольку мой полк так долго бездействовал, я использовал любую представившуюся возможность, чтобы участвовать в интересной глубокой разведке, обходя левый фланг противника. Во время одной из таких рекогносцировок, которая продолжалась десять дней, я получил боевое крещение. Нашей задачей было изучить систему эшелонированных укрепленных пунктов, которые служили прикрытием для японских флангов. Эти укрепленные пункты, как правило, представляли собой большие китайские деревни, окруженные высокими кирпичными стенами. Попытки вести наблюдение с открытой местности почти всегда приводили к серьезным потерям, и в одной из таких оказий смертельное ранение получил ехавший рядом со мной капитан, князь Эльдаров.
С 25 декабря по 8 января я командовал двумя отдельными эскадронами и принимал участие в кавалерийской операции, проведенной генералом Мищенко силами нескольких эскадронов. Нашей целью было выйти на побережье, захватить японский порт снабжения Инкоу со стоящими там кораблями и перерезать железную дорогу между Порт-Артуром и Мукденом. Мы не знали, что японцы уже захватили Порт-Артур, а армия генерала Ноги совершала марш на север, к позициям генерала Куропаткина. Наш важный рейд был плохо исполнен. Вместо того чтобы повести основную массу кавалерии против Инкоу, оставив лишь небольшие отряды для нейтрализации местных опорных пунктов противника, Мищенко позволил главным силам увязнуть перед ними в боях. Мы потеряли много времени, и, когда наконец вышли к Инкоу, противник успел подготовиться. В разгар боя мы увидели, как из Порт-Артура шел воинский эшелон и японцы махали из вагонов фуражками и кричали «банзай».
Показательна и попытка Мищенко перерезать Маньчжурскую железную дорогу. Я предложил свои услуги для выполнения этого задания, но мне предпочли офицера помоложе. Поскольку к тому времени уже было известно о марше генерала Ноги на север, эта задача становилась важнее захвата Инкоу, и на ее выполнение необходимо было выделить более значительные силы. Вместо этого собрали шесть слабых отрядов из всех полков и это импровизированное подразделение отправили взрывать мост на самой важной железной дороге на всем театре военных действий. Попытка, как и следовало ожидать, провалилась.
В период с 10 по 18 января мой полк принимал участие в наступлении на Сандепу. Им командовал мой земляк генерал Оскар Гриппенберг, известный по кампаниям в Туркестане. Так мне выпала честь быть участником единственной крупномасштабной операции, которая, как минимум вначале, давала основания для оптимизма. Нашей задачей было охватить левый фланг противника и создать возможности для глубокого удара по его коммуникациям. Несмотря на многообещающее начало, вмешательство главнокомандующего, выводившего батальон за батальоном на другие участки фронта, сорвало всю операцию.
Я имел возможность наблюдать, насколько умело японцы использовали местность и насколько незаметны они были в своей форме цвета хаки. И именно в артиллерийской тактике японцы превосходили противника. Они использовали замаскированные артиллерийские позиции, тогда как русские по-прежнему вели огонь с открытых.
К середине февраля стало ясно, что противник, получивший подкрепление армией генерала Ноги, вскоре будет достаточно силен, чтобы перейти в наступление на русские позиции к югу от Мукдена. Командуя двумя отдельными эскадронами, я был прикомандирован к формировавшему крайнее правое крыло русского фронта Сибирскому армейскому корпусу под началом генерала Гернгросса. Мне приказали вести разведку в западном направлении, не ввязываясь в затяжные бои. В ходе этой рекогносцировки мы однажды столкнулись с японской кавалерией, численность которой после недолгой перестрелки я оценил в два-три эскадрона, оснащенные несколькими пулеметами. Подъезжая к своему левому флангу, я почувствовал, как мой скакун Талисман получил сильный удар. Пуля ранила великолепного коня, но долг он исполнил до конца. Прежде чем он упал, я выполнил свое задание.
Отправленные мной донесения помогли Верховному командованию понять, что японцы пытались предпринять обходной маневр. Мы столкнулись с войсками генерала Ноги. За день или два до этого противник начал наступление на фронте протяженностью более 90 миль, которое было остановлено только на левом фланге под командованием генерала Линевича. Русское главнокомандование ответило общим отходом, осуществленным очень бестолково – на правом фланге приказ об отходе получили слишком поздно. Вместо того чтобы отступить под покровом темноты, правый фланг, которому угрожала опасность, начал плохо спланированный маневр утром. Японцы препятствовали отступлению небольшими отрядами, вооруженными несколькими пушками. Умело используя всхолмленную местность, они нанесли противнику тяжелые потери, и отступление то тут, то там превращалось в разгром. Тем не менее японцам не удалось в полной мере развить свой успех и одержать решающую победу. Фронт стабилизировался всего в ста милях к северу от Мукдена. После этого генерала Куропаткина отстранили от командования и заменили генералом Линевичем, за короткое время приведшим армию в боевую готовность.
Я потерял хорошую лошадь, но за успешное выполнение задания был произведен в полковники. Однако эта честь не смягчила боль утраты верного друга Талисмана. Это был замечательный конь, и ни о чем я не жалел так сильно, как об этом чистокровном скакуне, который, несмотря на норовистость, был самой спокойной лошадью из всех, на которых я когда-либо ездил под огнем.
Поражением под Мукденом закончились сухопутные операции. За поражениями на суше в конце мая последовало Цусимское морское сражение, в результате которого вышедший в октябре 1904 года из Либавы русский Балтийский флот был полностью уничтожен. В июне царь принял предложение президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта о посредничестве, и своевременно, потому что закипавшее в России недовольство вскоре переросло в открытую революцию. Ожидалось, что условия Японии будут жесткими, однако по Портсмутскому мирному договору Россия отделалась довольно легко. Единственной территорией, которую Япония сумела за собой закрепить, была южная часть Сахалина. С другой стороны, Россия отказалась от прав на Порт-Артур и концессии на Южно-Китайскую железную дорогу, однако Китайско-Восточная железная дорога осталась за Россией. Господство Японии в Корее получило признание. О репарациях не упоминалось. Баланс сил на Дальнем Востоке был восстановлен и сохранялся еще тридцать лет. Стабилизирующим фактором выступали Соединенные Штаты Америки, чье влияние на мирные переговоры было решающим. Однако несправедливо не упомянуть мастерство, с которым за интересы страны боролся главный представитель России, бывший министр финансов Витте.
Поскольку я пошел на войну добровольцем, то есть не состоял в штате полка, а прежняя необходимость в офицерском составе отпала, в ноябре 1909 года мне приказали вернуться в Петербург. Я поехал в столицу в компании трех отправляющихся в отпуск молодых офицеров и до места назначения добрался после 31-дневного путешествия по охваченной хаосом Сибири.
За время поездки я твердо уяснил, что развал дисциплины достиг апогея, а «свобода», в том смысле, что каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, стала нормой. Революция по Транссибирской магистрали докатилась на Дальний Восток, и все станции и склады, украшенные лозунгом «Свобода», захватили взбунтовавшиеся солдаты. Коменданты станций были бессильны, а офицеров, пытавшихся восстановить порядок, расстреливали. Когда поезд подъезжал к станции, никто не знал, сможет ли он продолжить путь, локомотив могли отцепить и прицепить к воинскому эшелону. У всех была только одна мысль – как можно скорее добраться домой. На вокзалах царил хаос, буфеты разгромлены, прислуга отсутствовала, не работало вообще ничего. Если бы не предприимчивость замечательных пожилых сибирячек, выносивших к останавливавшемуся на какое-то время поезду жареных цыплят и дичь, крутые яйца, огромные буханки белого и черного хлеба, масло, сыр и молоко, пассажирам пришлось бы туго. Изобилие этих продуктов давало представление об огромном богатстве Сибири.
На самом театре военных действий порядка было больше, главным образом потому, что еще не возникло явившееся двенадцать лет спустя поветрие «солдатских Советов». Но даже в ту пору войска могли взбунтоваться по малейшему поводу.
В Петербурге я столкнулся с атмосферой страха и раздора. Тот факт, что 17 октября 1905 года царь издал манифест, вошедший в историю как «Манифест свободы», обещавший расширение гражданских прав и либеральную конституцию, не помешал революционной волне захлестнуть страну. Но в Петербурге и Москве порядок уже восстановила не принимавшая участия в войне императорская гвардия, а в остальной части империи – кавалерия. Забота о лошади отнимала у кавалериста столько времени, что для политики и заговоров его практически не оставалось.
Только после революции 1917 года узнали, что за день до издания манифеста император Николай II отрекался от престола в пользу брата, великого князя Михаила, однако в последний момент передумал. Интересно, как развивались бы дальнейшие события, откажись император от становившегося ему не по силам бремени власти тогда. Двенадцать лет спустя Николай II отрекся от престола, но было уже слишком поздно.
Русско-японская война была первой из пяти войн, в которых я принимал участие. Я пошел на нее, чтобы проверить свои способности и набраться опыта, и в какой-то мере добился желаемого. Готовым извлечь уроки из увиденного и услышанного война помогла понять, как делать не надо и в отношении довоенной дипломатии, и в подготовке к войне, и в реальной стратегии и тактике. Более того, Маньчжурская кампания яснее любого предшествующего вооруженного конфликта показала, что война больше дело не одних армий, а всего народа. Тут японцы явили миру замечательный пример единства и готовности к самопожертвованию.
Поражение России, а затем потрясшие империю до основания общественные и политические волнения оказали решающее влияние на мировые события. Одним из важнейших последствий стало то, что спустя девять лет верхушка Германии недооценила восточных соседей и развязала войну на два фронта.
Мне предоставили длительный отпуск из-за полученного на войне ревматизма, и я с большой радостью воспользовался случаем, чтобы поехать на родину. В Финляндии я окунулся в новую атмосферу. Волнения в России дали нашей стране передышку в долгой борьбе против политического гнета, принявшего с конца XIX века форму антиконституционного призыва в армию, русификации ведомств государственной службы и других принудительных мер, вплоть до упразднения финской армии. Очутившись в шатком положении, император, великий князь Финляндский, счел за лучшее отказаться от некоторых ненавистных мер по русификации, в результате открылись возможности для проведения существенных реформ, прежде русскими властями блокировавшихся. Важнейшей из них была парламентская реформа, означавшая отказ от сохранившегося со времен шведского правления представительства четырех сословий (дворян, духовенства, бюргеров и крестьян), в самой Швеции упраздненного еще в 1866 году, и учреждении демократического парламента всеобщего и равного представительства.
Как глава баронской ветви моей семьи я участвовал в дебатах представителей знати в последнем парламенте четырех сословий 1906 года. Согласно предложенному сенатом[2] законопроекту, «право голоса должны были получить все мужчины и женщины старше двадцати четырех лет». Прения по этому вопросу шли медленно, не столько из-за разногласий, сколько из-за громоздкой процедуры. Речь шла о создании национального единства всех классов, способного защитить автономию Финляндии и ее западные представления о праве и справедливости. И представители сословий, несмотря на серьезные колебания в отношении последнего вопроса – ультрадемократического однопалатного сейма (парламента), тем не менее проявили большую щедрость и готовность отказаться от своих привилегий, приняв это предложение единогласно.
Был ли готов к столь революционным переменам финский народ? Ответ на этот вопрос мы получили одиннадцать лет спустя. Ответ отрицательный.
Глава 3
Моя конная экспедиция по азии
Приказ начальника русского Генерального штаба. – Через Самарканд в Синьцзян. – Кашгар и Шелковый путь. – Через Тянь-Шань по всему краю. – Переход пустыни Гоби. – Китайские гарнизоны и мандарины. – Вдоль Великой Китайской стены. – Этнографические исследования. – Посещение монастыря на Утайшане и аудиенция далай-ламы. – Последний перегон до Пекина. – Отчеты и публикации. – Аудиенция у царя Николая II