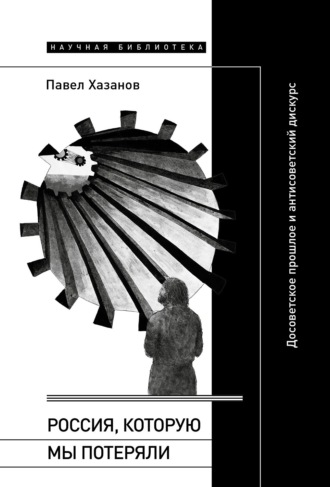
Полная версия
Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс
Образ досоветской интеллигенции в интерпретации Михалкова прямо сопрягается с антиполитическим общественным договором мелодраматического гуманизма. Михалковская трактовка творчества Чехова и романа Гончарова «Обломов» задним числом обращает жизнь досоветской элиты в полноту человечности без какого-либо проекта. А созданная режиссером версия «Пяти вечеров» показывает, что постсталинская эпоха уже достигла толики этой полноты – и что состояние это непрочно и его надо оберегать от «наших» дальнейших попыток его нарушить. В политическом отношении отсюда следуют два вывода. Во-первых, государству не надо как-то кардинально меняться, чтобы позволить нам обрести «Россию, которую мы потеряли», потому что в определенном смысле мы уже обрели главный ее аспект – нашу благородную человечность. Во-вторых, если и когда государство действительно меняется в 1990‑е, жест Михалкова указывает еще одну идею, с помощью которой будущий режим сможет наладить контакт с младшей интеллигенцией, – идею отказа от политической активности из страха снова потерять «нашу» Россию.
Если с первой по четвертую главу я обращаюсь к причинам, наделившим досоветское прошлое привлекательностью и смыслом в массовом восприятии в 1950–1980‑е годы, то в пятой главе я перехожу к постсоветской парадигме и к тому, что я называю столыпинистской дискурсивной вариацией на тему «России, которую мы потеряли», где происходит синтез либерального и консервативного подхода к этой идеологеме. Я полагаю, что культ Петра Столыпина (председателя Совета министров при Николае II, в 1905–1911 годах) в современной России восходит к высказываниям Солженицына 1970‑х годов и подразумевает образ идеального государственного деятеля, руководящего страной в интересах культурной элиты и младшей интеллигенции, но без излишне демократических институтов, рискующих поставить под угрозу и его, и их власть. Столыпинство представляет этот полуавторитарный баланс как два этапа. Во-первых, он ставит задачу полного пересмотра государственного устройства как проекта, который можно осуществить с опорой на здравый смысл, на нормативные представления о том, кто должен руководить процессом. Согласно столыпинистским представлениям о законной иерархии, именно «мы», облеченная властью интеллигенция – теперь уже явно понимаемая как союз культурной элиты и технического класса, – должны стать во главе нового строя. Более того, за десятилетия как либерального, так и консервативного дискурса о досоветском прошлом мы уверовали, что мы всегда существовали в таком обличье и всегда стояли во главе. Постсоветская Россия должна быть просто возвратом к этому всегда считавшемуся нормальным состоянию. Во-вторых, столыпинство говорит о политике как о чрезвычайном процессе, когда пришедшие к власти считают себя демократами и при этом стараются уйти от демократических процедур, чтобы не позволить государству пасть жертвой безрассудных, не способных выражать мнение большинства «красно-коричневых» орд, всегда ищущих случая «нас» уничтожить, как уже было в 1917 году. Сначала я покажу, как в 1970‑е годы Солженицын, полемизируя с Померанцем, выстроил миф о наделенной властью столыпинистской интеллигенции. Миф этот был основан на внутренних противоречиях либерального дискурса о досоветском прошлом, о которых идет речь в первой и третьей главах. Далее я перейду к тому, как в условиях перестройки, благодаря популярным документальным фильмам Говорухина «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», столыпинство слилось с дискурсом «демократической» ельцинской коалиции. Наконец, я продемонстрирую, как посредством поздне-, а затем и постсоветских работ популярного консервативного историка Святослава Рыбаса культ Столыпина наложился на консервативный дискурс, описанный во второй и четвертой главах, и как этот вектор привел к тому, что постсоветский интеллигентский Субъект, теперь якобы облеченный властью, признал законной путинскую «управляемую демократию».
Разгадка убедительности столыпинства кроется в его привлекательной способности сплачивать «мы» в «России, которую мы потеряли». Он позволяет «нам» не только воображать себя наследниками тех, кто жил до советской власти, но и отмежеваться от своих советских социальных корней, вести свою родословную из более давнего прошлого, минуя советское, и даже заново изобрести образ имперской элиты так, чтобы он больше походил на нас самих. Завершает книгу шестая глава, где я показываю, как сопротивление этому образу мыслей может сложиться внутри столыпинистского дискурса, даже среди тех, кого по-прежнему привлекают его установки. Эти более или менее современные представители российского либерализма осознали, какова цена веры в антисоветские фантазии о досоветском прошлом: она имеет слишком много общего с дискурсом постсоветского авторитаризма, будь то в его путинской или ельцинской разновидности. В первой части этой главы прослеживаются примеры обеспокоенности в творчестве Бориса Акунина24 и Людмилы Улицкой25 на фоне в целом ортодоксального, оптимистичного изображения столыпинистского Субъекта. Во второй части я рассматриваю произведения Леонида Парфенова, Александра Сокурова и Виктора Пелевина, где угадываются попытки критики изнутри, предпринимаемые настороженным, но по-прежнему столыпинистским Субъектом. На мой взгляд, главная линия этой критики изнутри – дистанцирование от имперского прошлого. Такой жест не отменяет ощущения ценности этого прошлого, но подрывает «нашу» кажущуюся самоочевидной преемственность по отношению к нему. Этот разрыв, в свою очередь, подводит столыпинистского Субъекта к осознанию условий своего исторического бытия – к осознанию, что он является продуктом советской истории. Такое осознание не разрушает этот Субъект, но позволяет тем из «нас», кто продолжает с ним идентифицироваться, признать, пусть неохотно и неуверенно, что столыпинство не должно быть главным способом осмыслять политическое действие в реальном мире здесь и сейчас и что не стоит позволять нашим фантазиям о «России, которую мы потеряли» диктовать характер изменений в России, в которой мы сейчас живем.
***Я закончу введение двумя оговорками. Первая касается ограничений моей методологии. В моей книге, несомненно, изложена история, но не такая, где четко прослеживаются причинные связи типа «некто А подумал Х и поэтому совершил действие Y». Максимум эта книга показывает, как антисоветский дискурс о досоветском прошлом повлиял на идеологическое силовое поле в духе того, что Альтюссер назвал бы «структурной причинностью». Антисоветский дискурс о досоветском прошлом укоренился в политическом воображении российских исторических акторов и помогал им решать (часто лишь наполовину осознанно), как действовать в ключевые моменты. Я убежден, что этот дискурс помог склонить чашу весов в определенную сторону для акторов, причисляющих себя к интеллигенции, на исторических водоразделах, таких как 1968 год, брежневские десятилетия, перестройка, а также в переломные для постсоветской истории моменты – 1991‑й, 1993‑й, 1996‑й и 2011–2012 годы. Я не сомневаюсь, что социологический или антропологический инструментарий, которым я, как человек с филологическим образованием, не владею, способен уточнить или опровергнуть некоторые из моих тезисов. Без этого инструментария я не могу и прямо ответить на вопрос: «Как вы можете с уверенностью утверждать, что некто А или некая группа Б в самом деле имели в виду Х?» Впрочем, я полагаю, что мой метод дает на такие вопросы косвенный ответ, предлагая вниманию читателя обширный, хотя и не исчерпывающий, архив артефактов, созданных видными деятелями культуры и наделенными властью политиками. Их статус и/или очевидное культурное влияние позволяет мне заключить, что они успешно донесли свои идеи до масс. При этом, стремясь рассмотреть процесс в деталях, я выбрал произведения, примечательные тем, что в своей аргументации они опираются друг на друга, хотя и созданы авторами, не имеющими, на первый взгляд, ничего общего, такими как Ахматова, Лотман и Эйдельман, с одной стороны, и Солоухин, Михалков и даже Путин – с другой. Из консенсуса между предполагаемыми противниками я делаю вывод, что антисоветский дискурс о досоветском прошлом сыграл свою роль, поспособствовав тому, что новейшая российская история приняла то направление, которое она приняла (включая и повороты 2014 и 2022 годов). Однако оценить, насколько велика эта роль, не в моих силах.
Последнее утверждение подводит меня ко второй оговорке. Так как моя книга построена на критическом анализе идеологии, она причастна к «герменевтике подозрения», если воспользоваться термином Поля Рикёра26. Подозревать кого-либо – значит в чем-то его обвинять. Разумеется, не следует преувеличивать вину отдельных авторов, упомянутых в моей работе. И все же тем древним вопросом, который некогда задавали себе марксисты в советской России: «В какой момент все пошло не так?» – безусловно, задаются сегодня и все, кто причисляет себя к интеллигенции в постсоветской России, особенно после 24 февраля 2022 года. И так же, как в прежние времена марксисты, постсоветские интеллигенты сегодня очень часто подозревают, что они сами или их непосредственные предшественники ответственны за такой поворот российской истории. Эта книга их (нас!) не утешит. В ней утверждается, что постсоветский авторитаризм отчасти узаконен интеллигенцией – именно потому, что она предпочитает считать себя интеллигенцией. Говоря словами Марка Липовецкого, интеллигентский дискурс лишен «силы сопротивления» Путину, потому что в его системе ценностей не так уж мало общего с путинизмом27. Со своей стороны, выступая отчасти как наследник интеллигентского социального воображения – в силу как специальности слависта, так и моего происхождения из среды городских образованных младших интеллигентов, – я подозреваю долю этой коллективной вины и в себе. Вместе с тем меня тревожит собственная вера в силу критики. Действительно ли осуществленная мной деконструкция современной российской интеллигентской идеологии служит сколько-нибудь ощутимому решению политических проблем? В книге, видимо, действительно это утверждается, и у этой убежденности тоже есть культурная логика, причем весьма подозрительная. Задачу реконструкции и критики этой логики – или поиска более остроумного выхода за ее пределы – я оставляю читателю.
Теперь же уйдем в дебри нашей темы. И начнем с того, с кого все приличные люди начинают рассуждать о русской культуре, – с Пушкина.
1. Советские дети в поисках имперских прадедов
Либеральный интеллигентный Субъект и его историческая близорукость
«Это ведь первая дама Империи!» – <…> «Она-то первая, да вы не второй».
Лидия Чуковская. Записки об Анне АхматовойВозвращение империи поэтов
В 1962 году по случаю 125-летней годовщины смерти Пушкина в толстом литературном журнале «Звезда» вышел короткий текст Анны Ахматовой «Слово о Пушкине». Это не первый текст Ахматовой о творчестве Пушкина, и по сравнению со всеми ее другими литературными и научными трудами, затрагивающими наследие главного русского поэта, «Слово о Пушкине» кажется безделицей. Но в этой безделице есть любопытный формальный элемент – сложное предпоследнее предложение:
Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, – они [враги Пушкина] могли бы услышать от поэта:
За меня не будете в ответе,Можете пока спокойно спать.Сила – право, только ваши детиЗа меня вас будут проклинать28.Что это за «поэт», от которого «они могли бы услышать» такие слова? Жанр этого эссе наводит на мысль, что Ахматова завершит его стихами Пушкина, в идеале известными и часто цитируемыми. Собственно, именно так она и поступает в последнем предложении: «И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный aere perennius». Но четверостишие, предваряющее это предложение, принадлежит не Пушкину, а самой Ахматовой, а значит, «поэт», о котором она говорит, – она сама. В чем смысл этой вставки, особенно тогда, в 1962 году?
На первый взгляд, очень краткое «Слово о Пушкине» сродни тривиальным поэтическим нравоучениям – здесь, как и в других своих эссе, Ахматова пишет об элите, которая предала поэта ради придворной карьеры, но не избежит возмездия в исторической памяти29. Однако, если копнуть глубже, перед нами текст не столько о Пушкине и даже не об Ахматовой как об отдельном поэте, сколько об идеологии фигуры «поэта» и ее роли в 1960‑е годы. В период оттепели, последовавший за смертью Сталина, Ахматова уже не была просто автором, оставившим легендарное творческое наследие. К тому времени она превратилась в своего рода институцию. Как-то раз, вскоре после смерти Сталина, знакомый Лидии Чуковской в шутку назвал Ахматову «первой дамой Империи», и Чуковская с ним согласилась30. В другой части «Записок» – на дворе конец 1962 года, пик оттепели – эта мысль выражена еще более отчетливо:
Мы заговорили о том, может ли повториться 37‑й?
– Не может, – сказала Анна Андреевна твердо, – и знаете почему? Нет фона, на котором Сталин весь этот ужас взбивал. Вот вам косвенный признак: теперешнее молодое поколение нас с вами понимает, не правда ли? они для нас ручные, свои, а тогда, в 29‑м, в 30‑м году, было такое поколение, которое меня и знать не желало. «Как! Она тоже пишет какие-то стихи!» Было такое поколение, которое проходило сквозь меня, как сквозь тень. Какие-то там старые тетки любили когда-то какие-то ее стишки! – и все ждали, что вот-вот явится новый поэт, который скажет новое слово, и прочили в эти поэты Джека Алтаузена31.
В этом диалоге (как и в предыдущем примере) мы ясно видим ахматовскую идеологию «поэта». Ахматова – королева, к которой устремляются новые молодые поэты и писатели, такие как Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Андрей Синявский, Юлий Даниэль и Александр Солженицын, равно как и молодые актеры, в частности Алексей Баталов (все они и многие другие названы в «Записках» Чуковской). Все эти почитатели для нее «свои», «ручные». Она царит над своими придворными – литераторами и критиками. И именно с этих позиций Ахматова в 1962 году пишет о Пушкине. Именно в таком контексте возникает странная подмена, когда «поэт» говорит ее стихами.
Если учесть риторическое построение эссе, то получится, что Пушкин говорит от имени Ахматовой, причем ее словами. Она – это Пушкин, а Пушкин – это она. Она сливается со своим легендарным собратом, но не в диалоге и даже не как его физическое воплощение32. Речь идет о слиянии с Пушкиным на более абстрактном политическом уровне – слиянии, основанном на своего рода поэтическом варианте средневековой доктрины о двух телах короля. Ахматова знает, что в этот период она стоит во главе королевства, как в свое время стоял Пушкин. Об этом же ее стихотворение «Наследница», написанное в 1959 году. Тела конкретных монархов появляются и исчезают, но политическое тело вечно. Пушкин – и не только он, но любой великий русский поэт – переживает телесную смерть и продолжает жить, воплощаясь в наследниках своего трона. В годы оттепели самым очевидным претендентом на эту роль была Ахматова.
Я начал первую главу этой книги с Ахматовой, «первой дамы Империи», потому что окружающая ее аристократическая риторика – все эти королевы, короли, императрицы, наследники – должна несколько резать слух, учитывая, что дело происходит в советской России, почти через полвека после 1917 года. И действительно, двадцатью пятью годами ранее, во время столетнего юбилея смерти Пушкина, господствовала совсем другая риторика. Разумеется, Пушкин «был жив» и в 1937 году, но совершенно иначе, чем у Ахматовой в 1962‑м. Через двадцать лет после революции аристократический поэт вдруг оказался членом совета рабочих депутатов на Харьковском тракторном заводе33. Если верить Зощенко, обнаружилось даже, что Александра Сергеевича в детстве убаюкивала прабабка одного управдома34. Иными словами, он был «один из нас», «народный» поэт. Конечно, вставал вопрос: понимать ли слово «народный» в широком смысле или в революционном? Риторика, сопутствовавшая пушкинскому юбилею, всегда оставалась расплывчатой в этом отношении, как было свойственно всем дискуссиям о культурности (на заре советской эпохи обозначавшей государственную программу по повышению культурной грамотности и насаждению хорошего воспитания среди рабочих и крестьян) в сталинское время. Многие вариации на тему пушкиномании подразумевали, что Пушкин «наш» в житейском смысле слова. Считалось, что он просто по умолчанию принадлежит к «нашей» трансцендентной национальной сути – «нашей» народности. Между тем в уточнявшемся дискурсе советского просвещения Пушкин стал «своим» лишь недавно, когда революция присвоила великую культуру прошлого для блага победившего пролетариата. Как утверждал еще чуть ли не в 1930‑е годы советский марксист Михаил Лифшиц, в этом и заключалось главное противоречие сталинской эпохи, а значит, и советского просвещения – в колебании между революционными и термидорианскими установками. Официальная пресса провозглашала юношеские вольнолюбивые стихи Пушкина, его связи с декабристами – «дворянами-революционерами» – и, само собой, его крестьянскую няню свидетельствами его протосоветской социальной принадлежности. За всеми этими избитыми утверждениями Лифшиц усматривал традиционные механизмы культурной канонизации, включая считающуюся нормой убежденность в культурном превосходстве русских в сталинской «империи народов»35. В более идеальной версии, представленной Лифшицем в 1938 году в лекции «Народность искусства и борьба классов», дискурс советского просвещения пытался переиграть этот сценарий и заявить, что Пушкин объективно является представителем искусства мирового исторического значения, поэтому он теперь и принадлежит «нам», народу мирового пролетариата. При таком подходе место Пушкина становилось уже не вопросом национального наследия, а следствием более сложных диалектических отношений, причем фундаментальное отличие поэта от людей настоящего уже не сбрасывалось со счетов – актуальность его творчества для коммунизма объяснялась продуктивным парадоксом принадлежности за счет непринадлежности36.
Глядя из постсоветской эпохи, можно сказать, что вне зависимости от того, победил ли Лифшиц в философском споре в 1930‑е годы, историческую битву он проиграл, что, впрочем, было очевидно ему самому и другим представителям группы, известной как «Течение», еще в 1930‑е и стало тем более очевидно после смерти Сталина. В первое сталинское десятилетие эта идеалистская линия советского просвещения никогда не одерживала решительных побед над массовыми тенденциями в духе разговоров о няне Пушкина. Проходит двадцать пять лет, и ахматовский Пушкин – уже единственный в своем роде поэт, властелин тысячелетнего царства культуры, гордо возвышающийся над всеми и увенчивающий своих наследников, в то время как реальные политические враги приходят и уходят. Может показаться, что расстояние между позицией Ахматовой и рядовых сталинистов огромно, но на самом деле оно минимально. Да, в одном случае «поэт» – почти что крестьянский мальчишка-революционер в лаптях, и поэтому он «наш», в другом же поэт – отчетливо элитарное общественное предназначение, воплощение аристократии в самом прямом смысле слова, добродетельный правитель, противостоящий лжеэлите, наделенной политической властью. Но, как мыслители, подобные Лифшицу, заподозрили еще в 1930‑е, на самом деле Пушкин никогда не был крестьянским мальчиком в лаптях – недобросовестные нувориши-аппаратчики сталинской эпохи рядили в такие одежды, чтобы, присвоив себе права на его уже укрепившийся культурный статус, продвинуться к классовому господству, а революционная риторика была просто фиговым листочком, нужным для достижения цели. Ахматова и люди ее круга тоже это подозревали. Они видели, что сталинское общество, как и его предшественники, стратифицировано, что в нем есть своя элита, – разница в том, что при этом цинично притворялось постклассовой народной утопией; чтобы насаждать эту ложь – а новая буржуазия всегда знала, что это ложь, – оно создало массовую культуру соцреализма, а старую интеллигенцию, способную предъявить более законные права на статус культурной элиты, преследовало.
В приведенной мной цитате из «Записок» Ахматова озвучивает именно такую точку зрения: заменить ее Джеком Алтаузеном было нелепо, и «они» это знали; нелепо было и делать вид, что она «тень». Короче говоря, эти люди вовсе не избрали искреннее неподчинение прежней, традиционной культурной иерархии, и «мы» – поэты, критики, писатели (даже наихудшие авторы сталинистского толка) – всегда это понимали, даже если не подавали виду. У самой Ахматовой, хорошо знавшей крупных функционеров из Союза писателей, были все основания так думать37. Однако такая точка зрения, без сомнения, присуща не только ее поколению писателей досталинской эпохи. Приведу, например, сказанные в 1957 году слова Андрея Синявского (1925–1997), литературоведа, сформировавшегося полностью в рамках системы соцреалистической культуры:
Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты… Вероятно, будь мы менее образованными людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для художника цельности. А мы учились в школе, читали разные книги и слишком хорошо усвоили, что существовали до нас замечательные писатели – Бальзак, Мопассан, Лев Толстой. И был еще такой – как его? Че-че-че-Чехов. Это нас погубило. Нам тут же захотелось стать знаменитыми и писать как Чехов38.
Синявский язвительно подчеркивает, как мало мы верим в официальную советскую культуру: мы действуем как «соцреалисты», но в действительности хотим стать «знаменитыми». Мы действуем так, словно хотим говорить на языке коммунистической утопии, но на самом деле хотим быть частью элиты и пользоваться ее привилегиями. Мы действуем так, словно строим новую культуру, но у нас очень традиционные вкусы, поэтому мы признаем превосходство старых форм культурного производства. В общем, мы наследуем основные механизмы функционирования дореволюционной культуры, но при этом лжем себе и другим. Но вот наступает оттепель, и, может, лгать больше ни к чему?
С точки зрения, изложенной в этой книге, антисоветский дискурс о досоветском прошлом начинается с запроса культурной элиты (или интеллигенции в узком смысле слова) эпохи оттепели на честность в отношении общего, всеми разделяемого традиционного взгляда на культуру. Зубок описал расцвет «последней советской интеллигенции» как приход поколения культурной элиты, которое унаследовало традиции дореволюционной интеллигенции и, по словам Иосифа Бродского – его цитирует Зубок, – «скорей интуитивно, чем сознательно, … стремил[о]сь именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры»39. То, что Бродский и Зубок считают «интуицией», на мой взгляд, представляет собой почву для полноценной массовой идеологии, а именно: полусознательного открытия того, что почти вся советская элита, официальная или неофициальная, «сталинистская», оппозиционная или репрессированная, всегда знала. Они, как и государство, всегда верили в «непрерывность», а не в теоретическую революцию. Они всегда знали про этого «как его? Чехова», и почти все (за исключением некоторых представителей раннесоветского авангарда) просто хотели присоединиться к старому пантеону, а не перекраивать его принципы. И оттепель воспринималась как время, когда все наконец перестанут притворяться и будут говорить «начистоту»40. Партия при Хрущеве не собиралась соглашаться на все предполагаемые требования интеллигентского дискурса искренности, но была готова на уступки в главном. А главным был тот принцип, о котором говорит ахматовский Пушкин. «Слово о Пушкине» прежде всего провозглашает возвращение к норме – к нормальному и традиционному для России противостоянию представителей разных элит – «поэта» как олицетворения политического тела культурной «интеллигенции» в духе Гоббса и «режима». Кроме того, в «Слове о Пушкине» с уверенностью высказано естественное предположение об исходе таких противостояний – «поэт» в конечном счете всегда побеждает. Но эта победа понимается не в категориях пролетарской революции. Она принимает форму брошенного элите вызова – в момент, когда «ваши дети» (то есть дети «режима», преследовавшего «поэта») становятся посмертными почитателями Пушкина (то есть частью интеллигенции) и «проклинают вас»41.
А как же все остальные? Ахматова полагает, что культура – исключительно дело элиты, или же народ так или иначе участвует в ней? В своем эссе Ахматова замечает, что «тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались»42. Кого она имеет в виду и когда? Уж конечно, неграмотные дети няни Пушкина не «бросились к дому поэта» в XIX веке. Равно как и прабабка зощенковского управдома. В то время под «всей Россией» подразумевалась, вероятно, только интеллигенция. Но как обстоит дело с 1960‑ми, и как «вся Россия» туда попала? Фраза Ахматовой заставляет вспомнить давнее представление о народе как безмолвном простом люде, который явно не посещал дом Пушкина, и если теперь там «вся Россия», сейчас речь идет уже о другой группе людей43. Наверное, есть десятки миллионов советских школьников, а еще родители многих из них, которые научились грамоте или пошли в начальную школу при Сталине. Но коль скоро все эти люди существуют и учитывая, как они появились (благодаря советскому просвещению в сталинской России и других советских республиках), какова их роль? Как они влияют на интеллигенцию? Если говорить о коллективном субъекте интеллигентского дискурса, это его внешняя сторона: кто они с исторической точки зрения, кто они сегодня, и усложняет ли этот вопрос нынешние представления?

