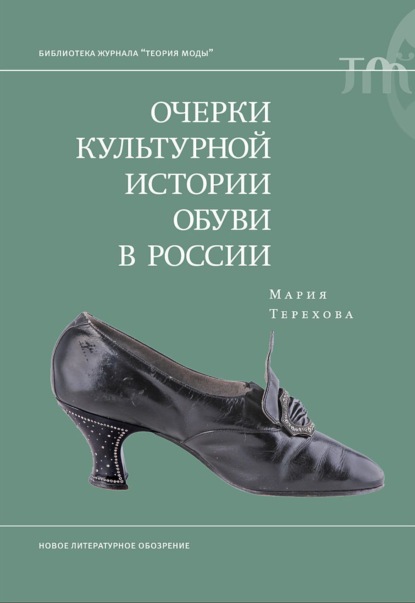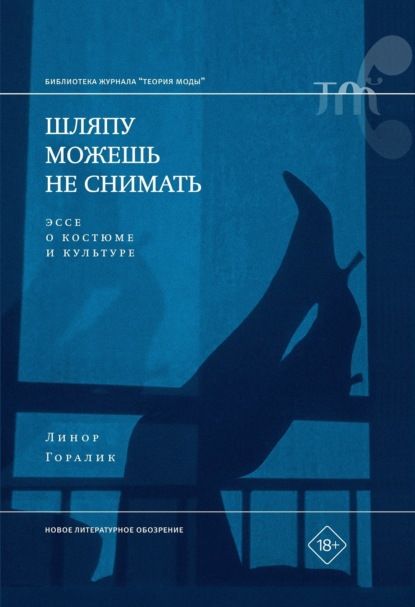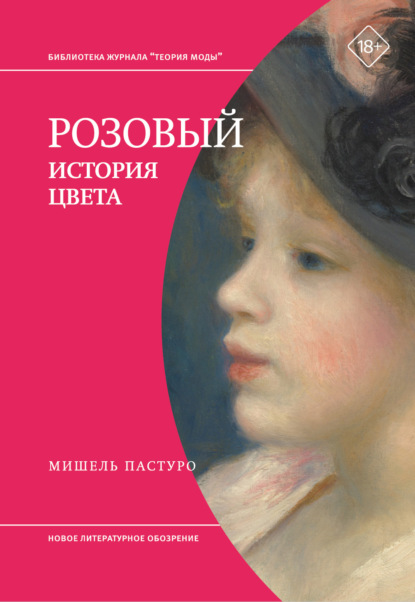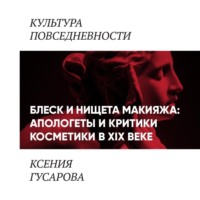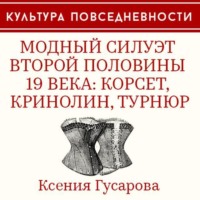Полная версия
Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках
Зооморфизм, о котором шла речь до сих пор, находился в центре общественных дискуссий и представлял собой энергичное визуальное высказывание – против моды или, наоборот, за большую свободу (как в индивидуальном творческом самовыражении, так и порой в общественно-политической деятельности). В части III рассматриваются имплицитные параллели между телом животного и человека – то, что можно назвать «невидимым» зооморфизмом в моде и визуальной культуре. Ключевое для этого раздела понятие, таксидермия, отсылает как к буквальному изготовлению чучел животных и птиц, так и, в метафорическом смысле, к конструированию модного тела по определенным канонам. В обоих случаях речь идет о работе с поверхностью, которой придается «естественный», эстетически привлекательный вид, и часть III посвящена прояснению оснований идей естественности и привлекательности, оперирующих в моде и таксидермических практиках, и анализу способов «перевода» этих идей в материальные объекты.
В главе 7 обосновывается центральная значимость поверхностных эффектов для конструирования и поддержания индивидуальной, социальной или видовой идентичности – и вместе с тем демонстрируется двусмысленность идентифицирующей поверхности, потенциально расслаивающейся на «одежду» и «кожу». Искусственный «вторичный» покров часто ассоциируется с обманом и порождает призывы сорвать его, подразумевающие символическое, а порой и буквальное насилие. Полемизируя с этой логикой разоблачения, я акцентирую подвижность представлений о соотношении подлинности и видимости, их зависимость от точки зрения наблюдателя. Эта линия продолжается в главе 8, где рассматриваются критерии жизнеподобия в естественно-научной и модной таксидермии. Почему простой пучок перьев иногда может выглядеть вполне убедительной «птицей», а тщательно подобранные и раскрашенные вручную глаза чучела для кого-то остаются стеклянными? Таксидермические техники не только сами менялись с течением времени, но и воспринимались по-разному в зависимости от контекста их применения и установок зрителя. Глава 9 акцентирует сходство приемов таксидермии и способов конструирования одежды и демонстрирует, как модное тело и тело животного вписываются в единую систему координат с точки зрения пропорций и пластической выразительности.
Каждая глава имеет собственную внутреннюю структуру и интригу, поэтому всем разделам книги предпосланы дополнительные небольшие введения, которые, я надеюсь, помогут лучше сориентироваться в этой объемной и амбициозной работе.
Часть I
Эволюция
Зооморфная образность в моде нередко эксплицитно или имплицитно трактуется как «возвращение» человека к животному состоянию – тем самым актуализируются представления об эволюции, а также, если эволюция понимается исключительно как прогрессивное развитие, о ее противоположности, регрессе и дегенерации. Появление в 1860–1870‑х годах огромного количества модных карикатур и сатирических памфлетов, использующих сравнение модников с животными, представляется отнюдь не случайным: публикация «Происхождения видов» Чарлза Дарвина в 1859 году, безусловно, придала импульс этой тенденции, если не напрямую ее породила.
Помимо постулирования прямой генеалогической связи человека с самыми «низшими» животными, которая, конечно, будоражила воображение современников, теории Дарвина предложили богатый инструментарий для осмысления модного поведения: от адаптивной функции одежды до декоративных излишеств, порождаемых половым отбором. В главе 1 рассматриваются аналогии между модными практиками и природными процессами в работах самого Дарвина и его последователей, а также прослеживается влияние на ранние теории моды других эволюционных учений, в частности идей Жана-Батиста Ламарка. Научное знание всегда несет на себе отпечаток своего времени, однако собранные в этом разделе взгляды и объяснительные модели отличает претензия на объективность, нейтральное отношение к описываемым явлениям. В противоположность этому глава 2 посвящена модной сатире, выражающей неприкрыто ангажированную позицию. Карикатуристы и публицисты второй половины XIX века, о которых пойдет речь, выражали страх своей эпохи перед вырождением, наглядно проявлявшимся, по их мнению, в современной моде. В соответствии с выбранным жанром и выработанной манерой тон этих авторов варьировал от легкомысленно-игривых до ядовито-желчных нападок на модниц, чьи наряды и поведение знаменовали расчеловечение человека, упадок нации и западной цивилизации в целом. Наконец, в главе 3 описывается пересмотр подобных представлений в XX–XXI веках, когда содержание и ценность «человеческого» в противопоставлении «животному», а также иерархии народов и культур, порожденные колониальным порядком, все в большей степени подвергались сомнению и критике. Позитивные аспекты «обратной эволюции», «инволюции» и «становления-животным» рассматриваются в заключительном разделе части I сначала в теории, на материале научных и философских концепций, а затем на примерах зооморфных образов в моде Новейшего времени.
Глава 1
Осмысление моды в контексте эволюционных теорий
Как показали историки науки и популярного знания, в частности Роджер Кутер в своем основополагающем исследовании социокультурных контекстов распространения френологических представлений в Великобритании первой половины XIX века (Cooter 1984), уникальное положение, которое занимает Дарвин в истории естественно-научных идей, сформировалось во многом ретроспективно. В тени остались многие работы, которые имели в свое время более широкую циркуляцию, чем «Происхождение видов»6, и вызывали не менее бурные общественные дискуссии, однако как не соответствующие научной норме наших дней не могли войти в ее «генеалогию»7. Тем не менее для моего предмета центральное значение идей Дарвина представляется несомненным: как показывают многочисленные викторианские зооморфные карикатуры на самого ученого, для современников работы Дарвина напрямую ассоциировались с пересмотром и размыванием границ между животным и человеческим. Дарвиновская теория эволюции придала мощный импульс дискуссиям о вырождении, которые, в свою очередь, нередко затрагивали влияние модного костюма на здоровье и репродуктивную функцию. Таким образом, зооморфные образы в модной карикатуре второй половины XIX века, как и сатирические сравнения модников с животными в публицистике этого периода почти всегда эксплицитно или имплицитно отсылают к идеям Дарвина.
Поэтому в данной главе я подробно рассмотрю взгляды ученого в контексте истории идей, прежде чем обратиться к порожденным ими визуальным воплощениям и риторическим топосам дискурса о моде, которые являются предметом главы 2. Речь пойдет именно об истории идей, а не истории науки, так как меня интересует прежде всего распространение и рецепция дарвинизма за пределами естественных наук, в поле социогуманитарного знания: в рамках нарождавшихся в это время дисциплин, таких как культурная антропология, социология и психология, и в области популярных представлений о человеке и обществе. Такие представления не обязательно носили строго «научный» характер даже с точки зрения современников, не говоря уже о нашей ретроспективной оценке, однако образовывали важную часть публицистического дискурса и укоренялись в обыденном сознании огромного числа людей.
В разделе «Чарлз Дарвин и мода» я рассмотрю связь идей Дарвина с их собственным интеллектуальным, социальным, визуальным и материальным контекстом, фокусируясь на многочисленных отсылках к современной женской моде в трудах ученого. Эти аналогии порой играют ключевую роль в дарвиновской аргументации, наглядно демонстрируя, до какой степени природа мыслилась в антропоморфных категориях, отражающих представления самого ученого о «естественном» устройстве общества. Раздел «Теории моды после Дарвина» посвящен попыткам различных авторов применить идеи Дарвина к описанию и объяснению истории костюма и модного поведения своего времени. Первые подобные опыты возникли уже при жизни Чарлза Дарвина и носили характер прямых отсылок к его работам, если не оммажей выдающемуся ученому. Со временем имя Дарвина исчезает из текстов, посвященных одежде и моде8, однако влияние его идей в этой области, как я продемонстрирую в данном исследовании, подспудно сохраняется по меньшей мере до конца 1930‑х годов. Наконец, в разделе «Не только Дарвин» речь пойдет об альтернативных взглядах на эволюцию живых существ, которые нередко смешиваются с дарвиновскими, в частности в дискурсе о моде, поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы, насколько это возможно, разграничить трансформистские концепции и теорию Дарвина, а главное, их отзвуки в более широком культурном контексте. Идеи Ламарка, Жоффруа Сент-Илера и других более ранних авторов не только оказались вновь востребованы на рубеже XIX–XX веков, в качестве альтернативы «вышедшей из моды» в тот момент дарвиновской эволюционной теории, но и приобрели неожиданно актуальное звучание столетие спустя, в контексте дискуссий о постгуманизме и киборгизации, влияние которых на моду будет в дальнейшем подробно рассмотрено в главе 3.
Чарлз Дарвин и мода
В викторианском обществе, к которому принадлежал Чарлз Дарвин, преобладала гендерная идеология «раздельных сфер», предполагавшая, что повседневные занятия и интересы мужчин и женщин практически не пересекаются. Пример моды наглядно показывает, что это была довольно условная теоретическая конструкция, не отражавшая реального положения дел. Представления о должном в области современного мужского костюма нашли свое наиболее яркое выражение в известной концепции «великого мужского отречения», сформулированной Дж. К. Флюгелем в 1930 году (Carter 2003: 109). Согласно ей, во второй половине XVIII столетия в мужской одежде намечается движение к все большей простоте и лаконичности, сдержанным тонам, отказу от украшений и обильной отделки. Иными словами, мужчины дистанцируются от моды, сфера которой отныне маркирована как «женская», и максимум, что они могут себе позволить, – это «заметная незаметность» денди (Вайнштейн 2006). Однако, как будет показано далее в этой книге, по меньшей мере до середины XIX века именно мужчины прежде всего воспринимались как обладатели яркого «оперения», и в действительности сохранившиеся предметы одежды, в первую очередь разноцветные, расшитые шелком и золотой нитью жилеты, демонстрируют, скорее, тягу к приватной зрелищности, к роскоши, которая может быть не видна стороннему наблюдателю, но, безусловно, осязаема и важна для самого носителя.
Подобное расхождение между нормативными представлениями и реальными практиками Джудит Батлер, рассуждая о механизмах гендерного регулирования, комментирует следующим образом: «Норма отвечает за социальное восприятие и усвоение действия, но она вовсе не совпадает с действием, которое регулируется ею. Норма предстает индифферентной к действиям, которыми она управляет, – имеется в виду то, что статус и эффекты нормы не зависят от действий, контролируемых ею. Норма определяет познаваемость, позволяет определенным видам практик и действий становиться социально различимыми, делая социальное удобочитаемым и намечая параметры того, что приемлемо или неприемлемо в общественной сфере» (Батлер 2011). Таким образом, мужская мода становится своего рода слепым пятном викторианского дискурса о маскулинности, и мужчины, активно вовлеченные в «женские» практики, могут при этом искренне поддерживать идею «раздельных сфер».
Чарлзу Дарвину разделение мужской и женской областей деятельности виделось безусловно разумным и справедливым. Наука в его картине мира была исключительно мужским делом, к которому женщины не могли иметь ни способности, ни интереса. Дарвин даже отговорил свою будущую жену читать «Основные начала геологии» Чарлза Лайеля, за которые она было принялась, желая лучше понять своего ученого жениха и его занятия9 (Richards 2017: 48). Женскую сферу образовывало ведение домашнего хозяйства, уход за больными (Дарвин страдал от загадочного заболевания, которое часто и на продолжительное время лишало его работоспособности и делало полностью зависимым от заботы жены), а также «легкомысленная» декоративность, ассоциируемая с модным потреблением. При этом сам Дарвин в своих опубликованных работах и личных документах демонстрировал неизменную наблюдательность в отношении костюма, в особенности женского, который нередко становится у него предметом эстетической оценки. В заметках, сделанных во время кругосветного путешествия на корабле «Бигль», Дарвин подробно описывает одежду других народов и особенно их женщин, которых сравнивает с англичанками не всегда в пользу последних. В позднейших работах ученого нередки упоминания современной женской моды, которая предоставляет материал для аналогий в описании процессов, происходящих в животном мире, – в первую очередь, брачного поведения различных видов.
Эта тема занимает центральное место в вышедшей в 1871 году книге «Происхождение человека и половой отбор», подготовка которой заняла у Дарвина несколько десятилетий. Все это время ученый собирал данные, чтобы как следует обосновать свои – сенсационные для того времени – взгляды на происхождение человека, лишь намеком обозначенные в заключении к «Происхождению видов», опубликованному за дюжину лет до того. К материалам, которые в итоге оказались непосредственным или косвенным образом использованы в «Происхождении человека», относились не только сугубо «научные» данные натуралистических наблюдений и экспериментов, но и впечатления Дарвина от общественно-политических дискуссий и массовой культуры его времени. Эвеллин Ричардс, проследившая в объемной монографии зарождение у Дарвина представлений о половом отборе и дальнейшую жизнь этой идеи в культуре рубежа веков, убеждена: «Дарвин пришел к идее полового отбора не на основании изучения половых различий и брачного поведения птиц и других животных, как сам он утверждал в этой переписке (с Артуром Уоллесом. – К. Г.), а наоборот: на основании своей, очень викторианской по духу, интерпретации человеческих практик выбора жены, ухаживания и брака, которую он затем распространил на животных» (Richards 2017: xxi). Радикальные взгляды Дарвина на соотношение человеческого и животного были, примечательным образом, укоренены в весьма консервативных, строго иерархизированных представлениях о гендере, классе и расе и выражались на языке этих последних.
Впрочем, сами определения «радикальный» и «консервативный» не только имеют исторически подвижное и изменчивое наполнение, но даже в рамках конкретного социокультурного контекста не могут быть закреплены окончательно, так как любая идея остается открытой для альтернативных интерпретаций, порой противоположных по смыслу. Так, движущей силой полового отбора у большинства видов животных, по Дарвину, является «женский выбор» (female choice): самки выбирают своим партнером самца, который превосходит всех остальных силой, красотой и другими данными (способностью строить гнезда, пением и тому подобным). На рубеже 1860–1870‑х годов, когда в Великобритании велись оживленные общественные дискуссии об избирательном праве для женщин, термин «женский выбор» не мог не вызывать соответствующих ассоциаций и, возможно, был подсознательно навеян Дарвину этим контекстом (с которым на сознательном уровне он не желал иметь ничего общего).
Эвеллин Ричардс выдвигает другую гипотезу о происхождении данного понятия, указывая на одноименную моралистическую сказку, включенную в один из сборников для семейного чтения «Домашние вечера», выпущенных в конце XVIII века британскими писателями Джоном Айкином и Анной-Летицией Барбо (Richards 2017: 221). Ричардс отмечает, что по своему социальному положению, религиозным и политическим взглядам Барбо была близка к кругу Дарвинов – Веджвудов, и, в частности, Эразм Дарвин рекомендовал ее тексты в своей программе женского образования, что позволяет с высокой долей уверенности предположить, что на них воспитывались и его собственные внуки. «Домашние вечера» оставались хрестоматийным детским чтением по меньшей мере до середины XIX века, и дети Чарлза Дарвина также, скорее всего, знали их. В сказке «Женский выбор» девочке по имени Мелисса являются аллегории Домовитости и Развлечения, каждая из которых призывает следовать за ней. В характеристике этих персонажей одежде отводится ключевая роль: Домовитость облачена в практичное коричневое платье и простой, без декора, чепец, тогда как Развлечение разряжена с большой пышностью – на ней воздушное платье из тонких тканей, розовое с зеленой отделкой и серебристым поясом, прическа из золотых кудрей украшена искусственными цветами и перьями; столь же блестящий наряд она протягивает Мелиссе. Девочка уже готова соблазниться удовольствиями, которые сулит ей Развлечение, однако Домовитость предупреждает, что та еще не показала свое истинное лицо – и действительно, в этот момент «обворожительная» маска падает с лица Развлечения, обнаруживая ее бледный, изможденный, болезненный вид. Мелисса понимает, что жизнь, полная суетных забав, имеет свою цену, и выбирает полезный труд, скромность и самоотречение (Ibid.: 222).
Мораль сказки и конструируемый ею идеал женственности вполне традиционны: примечательно, что героиня должна выбрать из двух стереотипных фигур, тогда как в реальности существовали и совершенно иные возможности, чему свидетельством жизнь самой Анны-Летиции Барбо – писательницы и активистки, которую недоброжелатели ставили в один ряд с Мэри Уолстонкрафт, как «бесполую женщину», угрожающую общественному порядку. По-своему традиционен и «женский выбор» у Дарвина: в его модели «женщина» (женская особь) неизменно предпочитает яркий наряд, однако далеко не всегда выбирает его для самой себя – напротив, у многих видов под действием полового отбора пышно одетым и богато декорированным оказывается самец. Через это предпочтение воспроизводится и закрепляется стереотип о женской легкомысленности, преимущественном внимании к внешнему, поверхностному, «сорочьей» тяге к блестящей мишуре. В то же время самки, играющие ключевую роль в половом отборе, фактически оказываются в «мужской» позиции, уподобляясь не только викторианскому буржуа, выбирающему себе невесту, но и знатоку, осуществляющему эстетическую экспертизу.
Эвеллин Ричардс проводит убедительную параллель между дарвиновской разборчивой самочкой и селекционером, стремящимся улучшить качества сельскохозяйственной или декоративной породы. Дарвин состоял в переписке со многими такими заводчиками-любителями, и предоставленные ими сведения активно использовались в его работах. Сама идея «естественного отбора», как известно, смоделирована Дарвином на основании этой практики: здесь в роли «селекционера» выступает природа, последовательно отбирающая наиболее жизнеспособных особей каждого вида и «выводящая» новые виды, сохраняя и приумножая полезные изменения. Антропоморфизм данной теоретической конструкции не ускользнул от ученого, который неоднократно вводит оговорки подобные следующей: «Для краткости я говорю иногда об естественном отборе как о разумной силе, как и астрономы говорят, что тяготение управляет движениями планет, или сельские хозяева говорят, что человек производит домашние расы посредством отбора. И в том и в другом случае отбор ничего не может сделать без изменчивости, а изменчивость каким-то образом зависит от действия окружающих условий на организм. Часто я также олицетворял слово природа, так как затруднялся, каким образом избежать этой неточности; но под словом природа я разумею лишь совокупное действие и результат многочисленных естественных законов, а под законом – лишь доказанную последовательность явлений» (Дарвин 1941: 30). Стремясь «деперсонализировать» естественный отбор, показать, что за ним не стоит некая единая воля, направленное усилие, Дарвин в то же время приуменьшает активную роль заводчиков, представляя их своего рода инструментами реализации заложенных в природе возможностей. Впоследствии ученый вводит разграничение между двумя типами отбора, осуществляемого селекционерами, «методическим» и «бессознательным»: «Любитель может воздействовать отбором на чрезвычайно мелкие личные различия, а также и на более крупные различия, присущие выродкам. Отбор производится методически, если любитель старается улучшить и изменить породу, руководясь заранее установленной меркой достоинства; или же любитель действует не методически и бессознательно и лишь старается вывести, по возможности, лучших птиц, без всякого желания и намерения изменить породу» (Там же: 167). Второй, «бессознательный» тип приближен к естественному отбору с его непрерывным, пусть и относительным, «улучшением» живых организмов; тогда как первый, «методический», выступает аналогией полового отбора, создающего бесполезные, а порой и откровенно вредные, но в высшей степени декоративные формы10.
Неслучайно в книге Дарвина «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1868), наиболее подробно освещающей практики селекции, параллели с модой в одежде проводятся особенно часто. В целом мода понимается в этой работе расширительно и включает в себя среди прочего предпочтения, отдаваемые той или иной породе или определенному свойству животного в определенный момент времени. Слово «мода» и аналогии с одежными практиками наиболее активно используются в описании различных пород голубей, разведение которых было крайне популярным хобби в ту эпоху. Представляется важным, что голуби, несмотря на использование их в пищу и иногда в почтовом сообщении, в первую очередь ценились именно за внешний вид, в преобразовании которого заводчики достигали потрясающих результатов – что и наталкивало на ассоциации с модой в одежде. Этому не мог не способствовать сложившийся в голубеводстве язык описания характерных особенностей тех или иных пород, включавший целый ряд терминов, почерпнутых из повседневного одежного лексикона, таких как «капюшон» или «оборка» (frill; в русском переводе П. П. Сушкина и Ф. Н. Крашенинникова – «жабо», так как речь идет о перьях на шее птицы).
Стремясь разгадать загадку происхождения различных пород, Дарвин обращается к историческим источникам, в которых его интересуют свидетельства изменений не только во внешнем виде животных, но и в предпочтениях заводчиков. Вот весьма характерные пассажи, относящиеся к двум различным породам голубей – дутышам и трубастым: «Около 1765 года мода переменилась, стали предпочитать более толстые и оперенные ноги тонким и почти голым. <…> В Англии в настоящее время не столько смотрят на количество хвостовых перьев, сколько на их направление вверх и ширину хвоста. Общая осанка птицы теперь также очень ценится» (Дарвин 1941: 157). Возникает искушение сопоставить эти данные с эволюцией модного силуэта в мужском и женском костюме соответствующих периодов, однако скорее речь идет об общем принципе изменений, чем о формальных аналогиях.
Далее Дарвин раскрывает эту мысль более подробно, акцентируя темпоральные различия между сменой вкусов в одежде и в практиках селекции – и все же приходит к выводу о значительном сходстве этих сфер: «Моды в голубеводстве держатся подолгу; мы не можем изменить строение птицы с такой быстротою, как покрой нашего платья <…> Тем не менее мода до некоторой степени меняется; внимание направляется то на одну черту строения, то на другую, или же в разное время и в разных странах любят разные породы <…> Породы, которые в настоящее время высоко ценятся в Индии, в Англии считаются ничего не стоящими» (Там же: 161–162). Хронологическая и географическая удаленность вкусов от того, что ценится «в Англии в настоящее время», предстают в работе Дарвина своего рода синонимами: в обоих случаях чужие эстетические предпочтения видятся менее «развитыми». Таким образом, мода (в голубеводстве, как и в одежде) выступает важным показателем уровня цивилизованности, недвусмысленно отделяя мировые центры от периферии, метрополию от колоний с их архаичными провинциальными вкусами11.
Подобно тому как видовая эволюция является результатом борьбы живых организмов за существование, по Дарвину, формирование и изменение вкусовых предпочтений происходит под влиянием конкуренции между людьми – символического, но отнюдь не мирного противостояния. И достижения селекции, и модные излишества проистекают «от общего свойства человеческой природы, именно от нашего соревнования и желания превзойти своих соседей. Мы видим это во всякой мимолетной моде, даже в нашей одежде, и под влиянием этого чувства любитель старается усилить всякую особенность своих пород» (Там же: 161). На это «общее свойство человеческой природы» Дарвин взирает будто бы беспристрастным взглядом натуралиста, без осуждения – скорее даже благосклонно, ведь подобная состязательность выступает залогом прогресса человечества и, разумеется, двигателем имперской и капиталистической экспансии, которая для Дарвина во многом синонимична прогрессу.
Далее мы увидим, что легитимное стремление к превосходству имеет свои социальные границы, однако мода в целом воспринимается Дарвином скорее положительно, отвечая не только потребности носителя одежды в престижном самовыражении, но и потребности наблюдателя в визуальном разнообразии. В «Происхождении человека» одна из заключительных глав завершается мыслью о том, что, в отсутствие альтернативы, даже совершенство может легко наскучить: «Будь все наши женщины так же красивы, как Медицейская Венера, мы были бы очарованы на время, но скоро пожелали бы разнообразия; и как только достигли бы разнообразия – стали бы желать, чтобы известные признаки в наших женщинах были развиты несколько больше против существующей общей нормы» (Дарвин 1872: 394). Здесь речь идет уже не об одежде12, а непосредственно о телах и лицах. Однако в противовес относительно устойчивому «строению птицы», над которым, как мы видели выше, мода менее властна, женские формы под направленным на них взглядом «селекционера» демонстрируют абсолютную пластичность: достаточно пожелать разнообразия, чтобы его достигнуть.