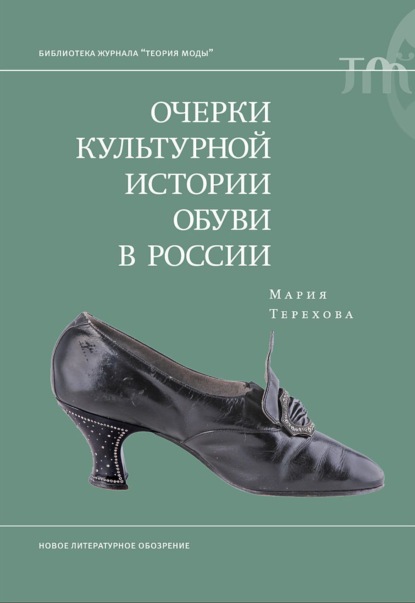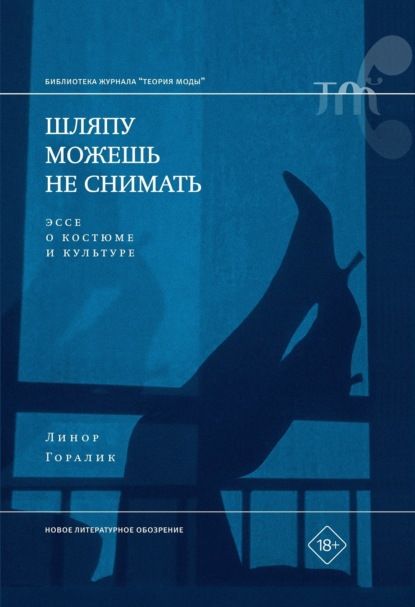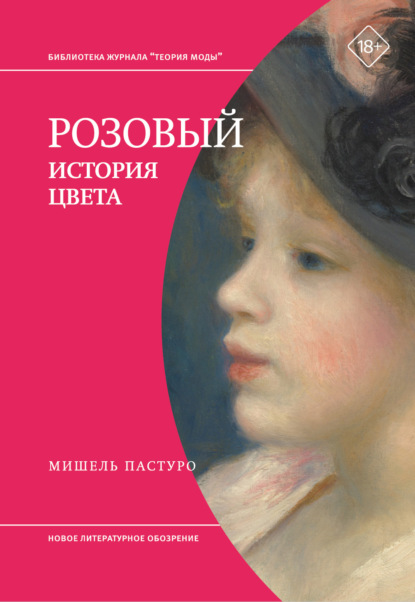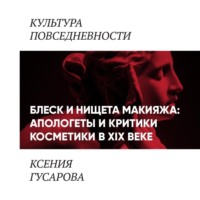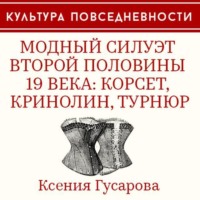Полная версия
Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках
Несложно заметить, что такого рода сравнения и отождествления, особенно те, что имеют негативный смысл, апеллируют к понятиям «человек» и «животное» как к дискретным, во многом противопоставляемым друг другу категориям (ведь само животное не может быть «зооморфным», установление сходства здесь зиждется на базовых, не подвергаемых сомнению различиях). Вернее, в рассматриваемом топосе эти категории взаимно конституируют друг друга: как я уже указывала выше, граница между человеком и животными в репрезентациях модных практик каждый раз прочерчивается заново. Подвижность этой границы, поверх которой разделяемые ею сущности отражаются и преломляются друг в друге, отмечают многие исследователи, говорящие о тесной связи и принципиальной неразделимости зооморфизма и антропоморфизма. Так, по мнению Бори Сакса, «и зооморфизм, и антропоморфизм – это способы, которыми, разделив вселенную на человеческую сферу, или „цивилизацию“, где всем правит свободный выбор, и природу, где все подчиняется инстинкту или необходимости, мы создаем гибридные идентичности. Зооморфизм переносит животных или „анималистические“ черты в человеческую сферу; антропоморфизм проецирует человеческие характеристики на царство природы» (Sax 2018: 291). В своей книге я, сообразно описываемым феноменам, использую оба понятия, однако зонтичным термином для обозначения подобных гибридных идентичностей мне служит зооморфизм: поскольку в большинстве рассматриваемых источников мода трактуется как явление исключительно (или в первую очередь) человеческое, я считаю, что речь идет о «переносе анималистических черт в человеческую сферу», даже в тех случаях, когда фигура модника не имеет никаких человеческих признаков, кроме костюма.
Помимо человека, уподобляющегося животному под действием моды, зооморфным можно назвать сам наряд. В этом втором смысле меня интересует граница между живым и неживым и весьма специфическая категория объектов, которые выглядят, как животные, в действительности ими не являясь. Я имею в виду чучела, в особенности птичьи, широко использовавшиеся в качестве шляпного декора на рубеже XIX–XX веков, и меховые горжетки с таксидермически выделанными мордами, лапами и хвостами пушных зверей. В этом случае зооморфизм означает жизнеподобие и естественность облика чучел, и важной частью моего исследования является выяснение того, как устроены эти качества. Для этого я изучаю пособия по таксидермии, сравниваю между собой чучела, создаваемые в качестве модного декора и для зоологических коллекций, и рассматриваю эти изделия в контексте репрезентации животных в визуальных искусствах и естественно-научной иллюстрации. Именно эти «воображаемые» животные, сконструированные по определенным правилам, в соответствии с эстетическими конвенциями, и являются теми референтами, к которым отсылают зооморфные образы в моде. Более того, даже на уровне технических приемов и языка их описания изготовление чучела имеет немало общего с созданием модного наряда – любого, а не только имеющего зооморфные визуальные характеристики. Таким образом, материальное и символическое конструирование модного тела и тела животного в культуре осуществляются на основании сходных принципов.
Эти принципы меняются с течением времени, и наиболее существенные изменения происходят во второй половине XX века, когда сама идея «естественности» подвергается радикальному пересмотру. Материальность таксидермии больше не может быть гарантией подлинности – напротив, она становится препятствием для воображения, очарованного образами дикой природы, которые поставляет телевидение, а затем интернет. Работа с поверхностью, составляющая суть таксидермических (и модных) практик, в этом контексте сохраняет центральную значимость, однако новая поверхность все чаще совпадает с экранной, не предполагающей множественности слоев. Подражая экранным образам, модное тело приобретает новую характеристику естественности – бесшовную континуальность, достигнуть которой в значительной степени позволяют синтетические ткани и в еще большей – виртуальная реальность.
Не только цифровые изображения, но и реальные тела приобретают все большую пластичность: животные – благодаря селекции и генной инженерии, человеческие – эстетической хирургии. В этой ситуации анималистичность оказывается заложена уже не столько в пропорциях, сколько в чисто поверхностных эффектах: рисунке и текстуре кожи, способности к мимикрии. И хотя в моде рубежа XX–XXI веков, безусловно, находится место зооморфизму, можно сказать, что животные все больше теряют свою специфическую форму, превращаясь в абстрактный знак инаковости, витальности или трогательности. Этот знак всегда имеет метонимическую природу, то есть целое в нем представлено каким-то одним атрибутом, например (искусственным) мехом или щупальцами. Зачастую весьма косвенная связь этих признаков с реальными животными позволяет позиционировать современную моду как более этичную, не связанную с эксплуатацией живой природы. Однако реальность выглядит сложнее: продолжает расти рынок кожаных изделий (Laing 2023: 56), удовлетворение спроса на которые сопряжено с использованием для животноводства все более обширных территорий, что способствует изменению климата и уничтожению биоразнообразия, не говоря уже об этической неоднозначности самого агропромышленного комплекса. Если сейчас намного меньше, чем век или полтора назад, говорят о жестокости моды по отношению к животным, это свидетельствует не только об изменении характера индустрии и ее сырьевой базы, но и об «исчезновении» животных.
Мысль о том, что животные в индустриальных и постиндустриальных западных обществах неотвратимо исчезают из человеческой реальности, впервые высказал британский культурный критик Джон Бёрджер в эссе 1977 года «Зачем смотреть на животных?» (Бёрджер 2017). Развитие междисциплинарных исследований роли животных в культуре (animal studies) в последующие десятилетия способствовало тому, что многие утверждения Бёрджера подверглись пересмотру и опровержению. В этой книге я обращаюсь и к классическому тексту Бёрджера, и к работам его критиков, чтобы показать, что если «исчезновение» животных и не было линейным процессом, например в транспортной сфере, оно недвусмысленно проявляется в моде. Наиболее важной для меня идеей Бёрджера является его наблюдение, согласно которому чем меньше среднестатистический горожанин взаимодействует с реальными животными, тем больше места в его жизни занимают животные воображаемые: мягкие игрушки, персонажи комиксов и мультфильмов, всевозможные объекты дизайна. Мода является той областью, в которой эта динамика наиболее заметна: физическое истребление животных идет рука об руку с торжеством зооморфной образности на подиумах и страницах модных журналов. В описании взаимосвязи между этими явлениями наряду с эссе Бёрджера я опираюсь на книгу Николь Шукин «Животный капитал» (Shukin 2009), в которой исчезновение животных проанализировано не только на символическом, но и на материальном уровне, за счет внимания к процессам переработки «отходов» мясной промышленности.
Права животных и обязанности исследователя
Теперь должно быть достаточно ясно, что наш Профессор, как мы уже намекали выше, есть умозрительный Радикал, и притом самого мрачного оттенка.
(Карлейль 1902: 67)Тема эксплуатации животных – топкая почва для исследовательского проекта, который рискует оказаться между Сциллой безучастия и Харибдой ангажированности. С активистской точки зрения почти любое теоретическое рассуждение будет выглядеть недостаточно радикальным и просто бессмысленным, ведь оно никак не влияет на реальное положение животных. В то же время наличие у исследователя выраженных этических и политических взглядов, предположительно, нарушает принципы научной объективности. В этом разделе введения я хотела бы обосновать свою позицию по данным вопросам.
Моя работа во многом черпает актуальность из растущего интереса к животным не только в академических кругах, но и в публичном пространстве. В последние годы научные эксперименты предоставляют подтверждения «разумной» деятельности все новых видов животных, их способности испытывать сложные эмоции, видеть сны и так далее. 19 апреля 2024 года была принята Нью-Йоркская декларация о сознании животных, под которой оставили подписи сотни ученых со всего мира. Согласно положениям декларации можно считать научно доказанным наличие сознания у теплокровных животных, и эмпирические данные не позволяют исключить сознательный опыт у других биологических типов, включая членистоногих и моллюсков. По мнению ученых, подписавших документ, эти обстоятельства должны учитываться при принятии решений, касающихся животных.
В прецедентах подобных решений, по меньшей мере отчасти мотивированных соображениями благополучия животных, нет недостатка. При этом речь идет отнюдь не только о западном мире. Так, в январе 2024 года Национальное собрание Республики Корея ввело запрет на употребление в пищу собачьего мяса3. В России сейчас активно обсуждается проблема бездомных животных и допустимость цирковых номеров с животными (причем зоозащитники утверждают, что общество готово к изменениям и в большинстве своем не поддерживает использование животных в цирке).
В этом контексте мне кажется важным проследить, как конструировался дискурс о необходимости гуманного обращения с животными и сохранения дикой природы, а также когда и каким образом модное потребление начало восприниматься как проблема с этой точки зрения. В этой истории меня интересует не только положительный опыт и постепенный «прогресс» в сфере отношений человека с животными, но и, прежде всего, почти произвольная избирательность представлений о допустимом и те «слепые» зоны, в которых насилие и жестокость оказываются нормализованы гуманным дискурсом. Выявляя подобную непоследовательность на историческом материале, я рассчитываю продемонстрировать корни дискуссий, многие из которых ведутся до сих пор, и тем самым способствовать усилению или консолидации определенных позиций в этих актуальных спорах.
Такие цели могут показаться несовместимыми с научной работой, однако я опираюсь на традицию феминистской критики науки, в которой привычные требования объективности и нейтральности ученого разоблачаются как культурная фикция, способствующая воспроизводству иерархий власти. Более того, абсолютно непредвзятая позиция переосмысляется как «невидимость [ученого] для самого себя» (Haraway 2018: 23), что является скорее недостатком для исследования, чем достоинством. В рамках данной работы я постоянно сталкивалась с тем, что современные ученые, претендующие на беспристрастную оценку исторических фактов, в действительности занимают одну из сторон в конфронтации, которую анализируют, предъявляя противоположной стороне обвинения, которые уже выдвигались (и убедительно опровергались!) более века назад. Казалось бы, очевидно, что историк не должен выступать арбитром своих героев, однако такие острые темы, как, например, вивисекция, по-прежнему способны поляризовать даже самую сдержанную академическую дискуссию.
Объективность, которая представляется мне по-настоящему ценной, была выразительно описана знаменитым палеонтологом и популяризатором науки Стивеном Гулдом: «Рабочее определение объективности должно подразумевать справедливое рассмотрение данных, а не отсутствие симпатий. Более того, необходимо понимать и признавать свои неизбежные симпатии, чтобы иметь возможность выявить их влияние – только так можно достигнуть справедливого рассмотрения данных и доводов! Нет зазнайства хуже, чем вера в собственную непогрешимую объективность – это самый надежный способ выставить себя дураком» (Gould 1996: 36). В своих симпатиях я в целом солидарна с Рози Брайдотти, которая пишет: «Становление-постчеловеком импонирует моему феминистскому „я“, отчасти потому, что мой пол исторически так и не достиг полноправного человеческого статуса, следовательно, моя приверженность этой категории в лучшем случае под вопросом и никак не может считаться чем-то само собою разумеющимся» (Braidotti 2013: 81).
Вместе с тем в этой книге слишком мало животных. Опираясь на многочисленные работы в области animal studies, я тем не менее методологически далека от них, потому что в центре моего внимания находятся не звери, а люди. Это достаточно консервативная исследовательская позиция по современным меркам, когда передовые ученые стремятся увидеть исторические события глазами животных или хотя бы максимально подчеркнуть агентность нечеловеческих других. Я считаю такую постановку вопросов совершенно легитимной и весьма значимой для пересмотра антропоцентричных установок, и сама стараюсь уделять внимание агентности живых животных и материалов животного происхождения. Тем не менее свой основной вклад в проблематизацию антропоцентризма я вижу в другом. Говоря о границах человеческого в культуре и, в частности, в моде, нельзя не отметить, что они сравнительно редко просто очерчивают вид Homo sapiens, отделяя его от других млекопитающих. Значительно чаще разграничение проводится между теми, кто считается в полной мере воплощающим нормативные представления о человеке, и теми, кто соответствует им лишь отчасти или не вписывается совершенно4.
Чаще всего такая дегуманизация осуществляется по расовому, этническому или религиозному признаку и используется как основание для дискриминации, эксплуатации и даже уничтожения «недостаточно» человечных групп. Зооморфными чертами нередко наделяются социальные низы, причем как народные массы в целом, «кишащие» в городском пространстве наподобие роя или стаи, так и отдельные их представители – например, натурщики, которых по дешевке нанимали для обучения живописцев в Российской академии художеств в первой половине XIX века: «В натурный класс собиралось иногда до сорока и более простолюдинов, и такие сборища повторялись иногда раза три, четыре, пока не отыщется удовлетворительная модель. И что же? Из сотни человек нет ни одного вполне годного: у этого сапоги изуродовали ноги, у того колена приняли вид мешков – он из огородников, у другого брюхо поглотило ноги, у третьего голова провалилась между плеч. Часто на станок натурного класса взлезают даже какие-то подобия лягушек, верблюдов, тюленей и проч.» (Рамазанов 2014: 315). Наконец, как подсказывает приведенная выше цитата Брайдотти, «полноправный человеческий статус» имеет гендерные ограничения, и женщины традиционно мыслятся как более близкие к природе, во многом аналогичные животным существа.
Именно это представление находится в центре данной работы. С середины XIX века женщины в США и Европе начинают все более активно и массово притязать на политические права, высшее образование и участие в профессиональной деятельности. Заметность женского движения и восприятие его как социальной аномалии стали, как я покажу в этой книге, важными факторами бума зооморфной образности в означенный период. Устойчивая ассоциация женщин с модой, с одной стороны, и с природой, с другой, в совокупности с реальными модными трендами, которые считались анималистичными, задали рамку для обсуждений женского движения, зачастую независимо от собственных одежных практик активисток. В то же время экстравагантный наряд, не выражавший никаких политических притязаний, но делавший женщину «слишком» заметной, мог расцениваться как посягательство на доминирование в публичной сфере.
По своей форме и последствиям дегуманизация модниц (и смешиваемых с ними активисток) может показаться несерьезным явлением в сравнении с расчеловечивающими дискурсами, направленными на этнокультурных Других: колонизированные народы, мигрантов, евреев. Рассуждения о модном зооморфизме часто облекаются в шутливую форму, и даже самые яростные нападки на его адептов, как правило, не предполагают перехода к физическому насилию. Тем не менее гипертрофированные обвинения и прямые оскорбления не редкость в этом дискурсе, и страсти достигают особого накала, когда в модницах видят угрозу – будь то демографии, национальной экономике или биоразнообразию.
Последний случай кажется мне наиболее показательным и важным, так как конструирует ситуацию, в которой нас побуждают увидеть «женский вопрос» и защиту дикой природы как противостоящие друг другу и взаимоисключающие сферы интересов. Свобода женщин носить, что им вздумается, и в целом распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению, не прислушиваясь к мнению (патриархальных) авторитетов, здесь оказывается в конфликте с сохранением редких видов, и мы будто бы обязательно должны примкнуть к одной из сторон этого противостояния. Большинство авторов рубежа веков, высказывавшихся по данному вопросу, не раздумывая выбирали животных (вернее, птиц), отдельные – как Вирджиния Вулф в эссе 1920 года (Woolf 1995) – становились на сторону женщин. Я же хотела бы продемонстрировать, что само это противостояние мнимое: права женщин и права животных вовсе не исключают друг друга, напротив, соблюдение одних невозможно при совершенном игнорировании других.
Все больше современных авторов отмечают взаимосвязь между различными формами угнетения и несправедливости, настаивая на необходимости интерсекционального подхода к их анализу. При этом многие феминистские теоретики десятилетиями указывают на то, что этот анализ не должен ограничиваться видовыми рамками. Так, Сюзанна Каппелер пишет: «То, что мы считаем парадигмой видового превосходства [speciesism], никогда не представляет собой простую бинарную оппозицию между „людьми“ и „животными“ – это комплексное взаимодействие между видовым шовинизмом, расизмом, сексизмом, классовым снобизмом, национализмом и т. п., в котором выкристаллизовывается небольшая, но исторически изменчивая группа господ, называющих себя „людьми“» (Kappeler 1995: 333–334).
На мой взгляд, идеальной иллюстрацией этой взаимосвязи является параллель между естественно-научным дискурсом рубежа XIX–XX веков, разделяющим диких животных на «заслуживающих» защиты и «вредителей», и буржуазными представлениями о «достойных» бедняках, которым должны помогать благотворительные организации, в отличие от злостных маргиналов, целиком повинных в собственных бедах. Примечательным образом, последние нередко описываются как угроза дикой природе: именно беднейшие слои населения оказываются вовлечены в коммерческую охоту на дичь и «сырье» для модной отделки. В этом качестве их статус структурно совпадает с животными-вредителями, что подчеркивается в многочисленных исторических источниках, посвященных этой проблематике. Задача современного ученого не воспроизводить эти классовые клише, а найти более нюансированные способы говорить о проблеме. Пример исследовательского подхода, в равной степени чувствительного к правам людей и животных, дают статьи Карла Гриффина о сельскохозяйственных работниках, убивавших или уродовавших животных в отместку хозяевам (Griffin 2014; Griffin 2018), но его принципы лишь предстоит адаптировать для изучения моды, где социальные (и гендерные) конфликты имеют иные очертания.
Разделение животных на полезных и вредных – лишь одна из логик противопоставления, воспроизводящих человеческие иерархии. Эстетические критерии также играют определенную роль: как минимум до середины XIX века животные для многих, включая натуралистов, делятся на красивых и уродливых, и близость к человеку по строению и пропорциям тела является одним из ключевых параметров красоты. В этом смысле показательно, что карикатуры на модниц 1860–1870‑х годов уподобляют их не только птицам и млекопитающим, но и членистоногим и моллюскам. С одной стороны, это может свидетельствовать о начале постепенной эстетической валоризации других классов животных, включая беспозвоночных, которая достигнет апогея на рубеже веков в искусстве модерна. С другой стороны, подобные образы представляют собой красноречивые высказывания об отводимом женщинам месте в социальной «таксономии», наглядно постулируя их абсолютную чуждость, инородность публичной сфере, в которой они пытаются закрепиться.
В целом в обыденной речи под «животными», как правило, подразумеваются млекопитающие, а отнюдь не все представители биологического царства животных, что указывает на наличие еще одной фундаментальной границы. Именно животные в узком смысле слова (звери) чаще всего становятся объектом антропоморфных репрезентаций, тем самым оказываясь ассимилированными в сферу «человеческого». Аннамари Вянскя вводит в этой связи термин «гоминизация», говоря об одежде и аксессуарах для собак (Vänskä 2018) – эта тема также подробно рассматривается в данной книге. Игнорируя инаковость животных, подобная ассимиляция сама по себе может представлять этическую проблему, и все же она, по крайней мере, предполагает признание за конкретной особью индивидуальности, которой оказываются лишены более конституционально далекие от человека животные, по умолчанию воспринимающиеся как расходный материал5. Изучение зооморфных образов в моде позволяет прямо или косвенно привлечь внимание ко всему многообразию межвидовых и внутривидовых границ, проводимых культурой, подсветив функционирование, следствия и цену этих разграничений для людей и животных.
Структура работы
Эта книга прослеживает изменения в отношениях людей и животных на обширном хронологическом отрезке, охватывающем в общей сложности около двух столетий. Однако изложение не имеет строгой линейной последовательности, а организовано скорее тематически, вокруг трех ключевых понятий: эволюция, жестокость и таксидермия. Первая часть книги посвящена влиянию эволюционных учений на осмысление феномена моды, практику модного дизайна и его визуальные репрезентации. Среди факторов, спровоцировавших бум зооморфной модной образности, безусловно, следует назвать публикацию «Происхождения видов» Чарлза Дарвина в 1859 году. Однако Дарвин не был первым и единственным теоретиком эволюции, чьи идеи в том или ином виде распространились далеко за пределы научного сообщества. Порой даже прямые отсылки к Дарвину в популярной культуре представляют собой «ложный след», потому что стоящие за ними идеи в действительности восходят к альтернативным взглядам на эволюцию, и задача первой части книги, в особенности главы 1, заключается в том, чтобы распутать клубок эволюционных представлений, повлиявших на осмысление моды.
Разделы первой части иллюстрируют различные способы помыслить моду в эволюционном контексте и широкий спектр выводов, к которым приходили те или иные авторы на основании доказанного родства между человеком и животными. Глава 1 представляет научный взгляд на моду: от идей самого Дарвина, в концептуализации которых, как уже было показано в исследовательской литературе (Richards 2017), мода играла не последнюю роль, до ранних теорий модного поведения, вдохновлявшихся трудами Дарвина, Ламарка и других эволюционистов. В противовес претендующему на объективность взгляду ученых, персонажи главы 2 смотрят на моду откровенно предвзято, видя в ней одновременно проявление и двигатель морального упадка, символ торжества глупости и тщеславия. Эволюция для этих авторов представляет собой направленный процесс физического и нравственного совершенствования, который, однако, может в любой момент развернуться в обратную сторону. Зооморфные образы в глазах критиков моды выглядят недвусмысленным симптомом вырождения, возврата на низшие ступени развития, который грозит человечеству из‑за легкомыслия модниц. Глава 3, напротив, иллюстрирует попытки отказаться от иерархических построений, помещающих человека на вершину эволюции, и переосмыслить идеи Дарвина (и Ламарка) в постгуманистическом ключе. В этом разделе рассматриваются такие философские концепции, как «мимикрия» Роже Кайуа, «становление-животным» Жиля Делёза и Феликса Гваттари, «киборгизация» Донны Харауэй и «сексуальные протезы», к которым Элизабет Гросс относит «артистические» расширения человеческих и нечеловеческих тел, появляющиеся в результате полового отбора. Глава помещает эти и другие идеи в диалог с модным дизайном, иллюстрацией и дефиле XX–XXI веков, в первую очередь с работами Эльзы Скьяпарелли и Александра Маккуина, в которых мотив «обратной эволюции» демонстрирует преемственность с зооморфной модной образностью предшествующего столетия, но наполняется совершенно иным смыслом.
Следующая часть книги возвращается к «долгому» XIX веку, чтобы показать, как менялись представления о допустимом обращении с животными и каким образом модные практики также начали рассматриваться в этом контексте. Несмотря на одержимость этого периода замерами и фиксацией телесных параметров – как человеческих (Гинзбург 2004; Dias 2004; Gould 1996), так и животных (Lytton 1911), – не все приметы вырождения были видны невооруженным глазом. Поэтому в части II «зооморфизм» приобретает во многом метафорический характер, отсылая к чудовищности жестокого обращения с животными и монструозности тех, кто непосредственно в нем участвует или потворствует ему (как, например, любительницы модного декора из материалов животного происхождения).
Глава 4 представляет общий контекст формирования зоозащитной повестки в западных странах, демонстрируя, как отношение к животным стало одним из ключевых показателей, позволяющих ранжировать индивидов, социальные группы и целые народы по степени «цивилизованности» – или, напротив, «дикости». Глава 5 обращается к конкретной группе «дикарей» – жестоким модницам, чье хищническое отношение к живой природе в глазах современников увязывается с политическим хищничеством, то есть необоснованными притязаниями на избирательные права. В главе 6 от убийства животных в угоду моде мы переходим к другим формам жестокого обращения, мотивированного модой: от использования конской упряжи, не позволяющей лошади держать голову в естественном положении, до селекции, производящей ограниченно жизнеспособных особей, которые ценятся за их декоративные свойства. Во всех этих случаях меня интересует дискурсивное конструирование проблемы и очерчивание ее границ – иными словами, почему лишь некоторые из достаточно сходных практик объявляются жестокими? Границы невидимой жестокости примечательным образом совпадают с границами человеческого: все, что выступает за их пределы, приобретает монструозные очертания, в частности воплощаясь в образе «гарпии-Моды».