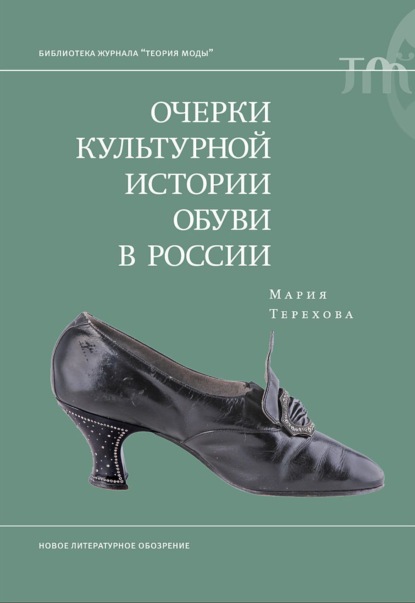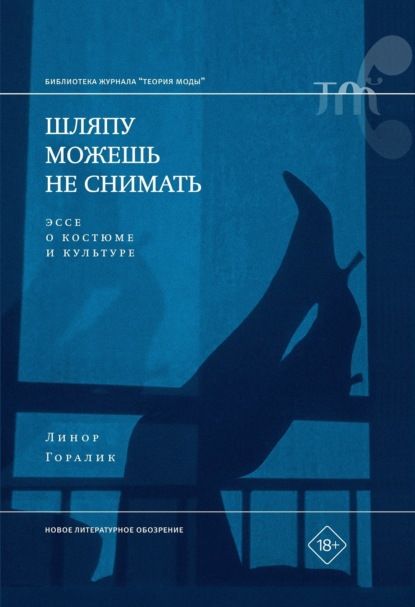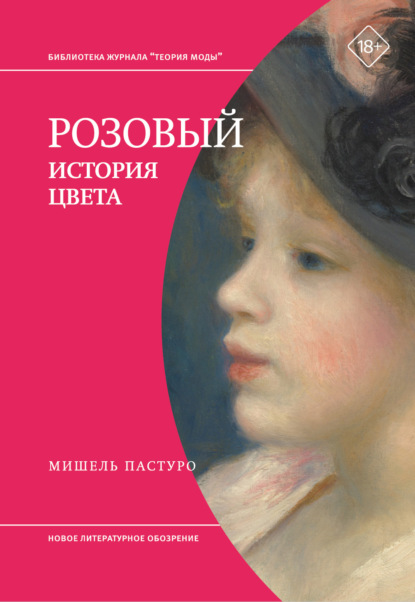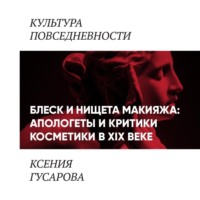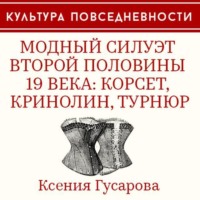Полная версия
Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX–XXI веках
67
Именно эти насекомые традиционно ассоциируются с женской беспечностью, любовью к нарядам и праздному времяпрепровождению. Об их семиотической «синонимичности» и превращении лафонтеновской цикады в стрекозу при переводе-пересказе Крылова см.: Успенский 2008.
68
В этом вымышленном таксономическом наименовании за счет шуточного перевода на латынь обыгрывается английский эпитет, которым наиболее часто награждали «современную девушку» – fast (шустрая, легкомысленная, беспутная).
69
Эту карикатуру обрамлял текст рецензии на альбом гравюр Уистлера с видами Темзы – по мнению биографа художника, «не случайно»: как известно, Уистлер использовал стилизованную бабочку в качестве подписи, и Дэниел Сазерленд считает, что карикатура Сэмборна, помимо своего непосредственного предмета, отсылает к Уистлеру и эстетизму (Sutherland 2014: 118).
70
В более ранний период в английской культуре бабочка была устойчивым символом денди (Вайнштейн 2006).
71
Невозможно не соотнести эту карикатуру со статьей Линн Линтон «Маленькие женщины», где дама крупного телосложения, флегматичная и добродушная, противопоставляется миниатюрной стервозной особе.
72
Одна фотография такого костюма хранится в фотоархиве Музея канадской истории Маккорда в Монреале: collections.musee-mccord.qc.ca/en/collection/artifacts/I-43757.1 (дата обращения 10.10.2021). На снимке мисс Ф. Прайор на карнавале 1870 года, проходившем на катке «Виктория». Согласно информации на сайте музея, на этом маскараде четыре женщины были в костюмах «современной девушки». Однако не у всех на шляпке была белка: так, на расписанном маслом панно, смонтированном из фотографий отдельных участников карнавала, на первом плане изображена «современная девушка» с птицей на шляпке: collections.musee-mccord.qc.ca/en/collection/artifacts/N-0000.116.21.1 (дата обращения 10.10.2021). Другие фотопортреты в шляпке с белкой были выполнены в студии американского фотографа Джеремайи Герни, моделью является британская актриса бурлеска Лидия Томпсон, выступавшая в амплуа «современной девушки»: digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-56e1-a3d9-e040-e00a18064a99 (дата обращения 10.10.2021).
73
Как пишет Мария Элена Бушек о фотографиях Лидии Томпсон в костюме «современной девушки», этот образ – «одновременно шутка и вызов, стереотип и автопортрет [актрисы]» (Buszek 2006: 56).
74
Я благодарна С. Н. Зенкину за указание на значимость идей Фишера в российском контексте, в частности об их влиянии на Н. Г. Чернышевского, чья магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» опиралась на «Эстетику» Фишера. По-видимому, Фишер-философ и Фишер-памфлетист («Дишер») для русского издателя и читателей «Мод и цинизма» остались разными людьми.
75
В оригинале – «границы», «пределы» (Grenzen) (Vischer 1879a: 7).
76
«Прелестными» (вернее, просто красивыми – schön) в оригинале названы оба цвета.
77
«…эстетические же способности самки должны были развиваться путем упражнения или привычки, подобно тому, как и наш собственный вкус совершенствуется мало-помалу. <…> мозг и умственные способности животных под влиянием сходных условий способны к приблизительно одинаковому ходу развития, а следовательно способны и к приблизительно одинаковым отправлениям» (Дарвин 1872: 447, 448).
78
Здесь Фишер отсылает к «Микрокосму» Лотце, однако если последний, как указывалось в главе 1, сосредоточивает внимание на тактильных и кинестетических ощущениях от одежды, то у Фишера на первый план выходят визуальные впечатления.
79
Уже в 1866 году корреспондент «Панча» под псевдонимом Крэбвуд Соуэрби писал о женских шиньонах, что оправдать их может исключительно «необходимость скрыть большую жировую шишку или иной нарост» (Sowerby 1866).
80
Заголовок статьи отсылает к работам немецкого философа первой половины XVIII века Христиана фон Вольфа, многие из которых назывались «Разумные мысли о…».
81
Примечательно, что Чарлз Дарвин связывал появление бород с действием полового отбора – таким образом, по его мнению, они также составляли конкурентное преимущество (Richards 2017: 457).
82
Совершенно иначе дело обстоит с мужской одеждой, где Фишер, напротив, рекомендует более универсальные фасоны, например широкие брюки прямого кроя, которые в равной степени скрадывали бы чрезмерную полноту и худобу мужских ног.
83
Я имею в виду понятие abjection, введенное Юлией Кристевой (Kristeva 1980) и широко используемое в феминистской критике.
84
Помимо повторяющейся аналогии со свиньями, которая рассматривается в данном абзаце, Фишер также сравнивает зрелых женщин с гигантскими обитателями подводного мира, называя их «чудовищами из праокеана и первозданного ила с животами-барабанами <…> полностью декольтированными мамашами-китами, морскими змеями в шиньонах» (Vischer 1879a: 27).
85
Отметим устойчивое использование вопросительного знака в скобках в контексте модной сатиры – этот прием встречался в подписи к карикатуре Сэмборна «Вечерний туалет в русалочьем стиле», где им сопровождалась отсылка к «природе».
86
Это подтверждает наблюдение Рэй Бет Гордон, согласно которому в последней четверти XIX века «то, как другие европейцы воспринимают французов, сопоставимо с тем, как французы воспринимают африканцев и чернокожих американцев» (Gordon 2009: 210).
87
В XVIII веке, в рамках креационистской картины мира, о вырождении, или «деградации», говорили применительно к упрощению организации живых существ при движении «вниз» по великой лестнице бытия, а также применительно к развитию человечества, для объяснения того, как дикари произошли от совершенных обитателей рая. Взгляды Мореля в целом аналогичны этой второй парадигме, с тем важным отличием, что он акцентирует не цивилизационное, а органическое развитие и упадок. Макс Нордау в предисловии к своему «Вырождению» отдает пальму первенства Морелю, который «вве<л> в первый раз в науку [это] понятие» (Нордау 1894: 1).
88
Среди интерпретировавших итоги войны таким образом был Гюстав Лебон (Gordon 2009: 62).
89
Также Фишер утверждает, что «нация приходит в упадок, когда теряет чувство стыда» (Vischer 1879b: 68), приводя пример древнегреческой цивилизации, которую, по его мнению, сгубило именно это.
90
В Великобритании подобные идеи получили широкое распространение за два десятилетия до того, катализированные активно обсуждавшейся в прессе гибелью от переутомления молодой швеи Мэри Энн Уокли (Гусарова 2020б: 175–176; Дейвид 2017: 13). Некоторые публикации были окрашены антисемитскими настроениями, так как владельцами ателье «Мадам Элиз», в котором работала Уокли, была супружеская пара по фамилии Айзексон. В описаниях Дрюмона работницы модных мастерских и продавщицы универсальных магазинов – это, конечно, всегда французские девушки, а их эксплуататоры – всегда евреи. Так классовый конфликт успешно подменяется «расовым» (Noiriel 2019).
91
Р. М. Кирсанова приводит характерное рассуждение героя Достоевского о шлейфах дамских платьев: «Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет <…> К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки сидят» (цит. по: Кирсанова 2019: 89). Исследовательница подчеркивает неверность этой интерпретации, так как описанная дама, судя по ее экстравагантному костюму, принадлежит к полусвету и не может иметь мужа-сенатора. Однако для меня важно само существование дискурса, связывающего моду с коррупцией, и его транснациональное распространение.
92
collections.vam.ac.uk/item/O577318/peacock-design-for-a-charles-frederick-worth/ (дата обращения 20.11.2024).
93
Кэролайн Вебер приводит и другие негативные отклики на «Бал зверей» во французской прессе, лейтмотивом которых является размывание границ между человеком и животным, выступающее провозвестником или метафорой социального хаоса и инсубординации (Weber 2019). Диана Снигурович также указывает на пересекание видовых границ как на «метафору социально-политических трансгрессий» (цит. по: Gordon 2019: 226).
94
В свою очередь, этот визуальный источник, особенно изображения на форзаце, можно возвести к ранненововременным «арчимбольдескам», демонстрировавшим механику движения человеческих фигур и связь микрокосма с макрокосмом. В немецких землях эта традиция имела особенное развитие (Чистова 2018).
95
Очевидно, речь идет о «модном» в это время учении о протоплазме, см.: Кукушкина и др. 2020: 76–78.
96
В этом Фишер предвосхищает рассуждения Вальтера Беньямина о моде как квинтэссенции товарного фетишизма: «[Мода] находится в противоречии с органическим миром. Она накрывает органическое тело колпаком неорганического мира. Она блюдет в живом права трупа. Ее жизненный нерв – фетишизм, подчиняющийся сексапильности неорганического мира» (Беньямин 2000: 159).
97
Уместно вспомнить, что формирование новых привычек имело центральную роль в эволюционной модели Ламарка.
98
Примечательную параллель анализу мужского костюма у Фишера составляет рассуждение Нордау о «выродившихся субъектах» мужского пола, чье анатомическое развитие тормозится в подростковом возрасте: «Рост туго подвигается вперед или совсем приостанавливается; кости остаются короткими, таз приобретает женские формы, остальные органы недоразвиваются, и тело получает отталкивающую форму чего-то незаконченного и поблеклого» (Нордау 1894: 33; курсив мой. – К.Г.). Здесь очевидно влияние представлений о том, что женщина представляет собой низшую стадию развития человека, находясь ближе к ребенку и эволюционному предку, чем мужчина.
99
В первую очередь речь идет о физическом заполнении собою пространства: благодаря кринолинам женщины агрессивно захватывают территорию, мужчины же позорно отступают. Приведенное выше рассуждение об анатомии ног представляется своего рода наукообразным «алиби», под прикрытием которого Фишер делает следующий вывод: «Узкие брюки сами по себе уже производили впечатление бессилия» (Vischer 1859а: 101).
100
Фишеру принадлежит любопытное рассуждение о том, что даже лидеры моды отнюдь не обладают большей свободой и властью, чем их последователи: «Разница между теми и другими в конечном счете несущественна, так как законодатели мод по сути накладывают кандалы прежде всего на самих себя и становятся своими собственными рабами» (Vischer 1859b: 124–125).
101
Примечательно, что во французском языке, напротив, закрепились «рыбьи» ассоциации: длинные и узкие фрачные фалды именовались «хвостом трески». См.: Асселино 2021: 249; Gautier 1859: 210. Я благодарна В. А. Мильчиной за указание на эти источники.
102
Показательно, что Томас Карлейль упоминает его в «Перекроенном портном», включая в догматы «секты денди» следующее фундаментальное положение: «Спасение в ласточкином хвосте» (Карлейль 1902: 307).
103
В оригинале Kaulquappen – головастики (Nordau 1896: 422). В переводе В. Генкена оставлены только «дрессированные блохи», а другие анималистические характеристики заменены иносказанием – «клоуны, шуты» (Нордау 1894: 197).
104
В качестве примера художников рубежа веков, вдохновлявшихся «низшими» животными, которых принято было считать «отвратительными», Рэй Бет Гордон называет Одилона Редона и Эмиля Галле (Gordon 2009: 113). Природные мотивы в творчестве последнего подробно анализирует Джессика Дандона (Dandona 2015; Dandona 2017). В отечественном контексте невозможно не вспомнить лестницу-волну, завершающуюся лампой-медузой, и в целом интерьерный декор спроектированного Ф. О. Шехтелем особняка С. П. Рябушинского (1900–1903).
105
Примечательно, до какой степени подобное антропоцентричное абстрагирование животных в искусстве остается центральным критерием художественной «подлинности»: так, британский художник Дэвид Хокни в одном из интервью говорит о большей «совиности» совы, нарисованной Пикассо, по сравнению с чучелом совы, так как Пикассо предлагает нам «человеческий взгляд на сову», а не просто сову как объект (Hockney 2013).
106
На русском языке эта работа выходила дважды: Дарвин 1908; Дарвин 1950. Список статей и их полнотекстовые версии доступны на сайте Джона ван Вайи «Darwin Online»: darwin-online.org.uk/contents.html (дата обращения 21.11.2024).
107
Идею «косм(ет)ической хирургии» у Тауссига можно сравнить с бодрийяровским понятием «эффект make-up», частным случаем которого является «натурализация» – эффект, «который встречается повсюду при воздействии на окружающую среду и который состоит в стремлении восстановить природу как символ, после того как она уничтожена в действительности. Так вырубают лес, чтобы построить там ансамбль, названный „Зеленым городом“, где посадят несколько деревьев, которые „будут символизировать“ природу» (Бодрийяр 2006: 120). В обоих случаях женское тело выступает эквивалентом пейзажа, с той разницей, что Тауссиг акцентирует болезненное и потенциально опасное вторжение в плоть, а Бодрийяр – поверхностные визуальные эффекты. При всей значимости проблем, которые поднимают оба автора, нельзя не отметить сексистские обертоны подобных дискурсов и возможность использовать их против женщин.