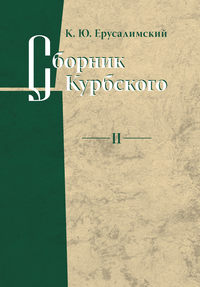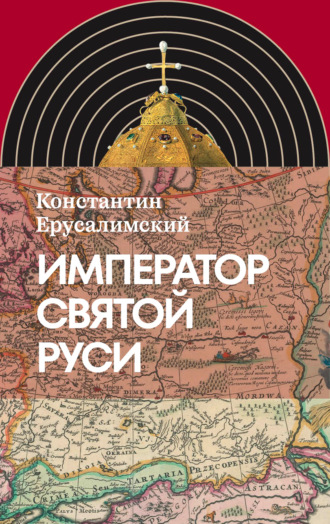
Полная версия
Император Святой Руси
В исследовании этико-политической лексики князя Андрея Михайловича в другом месте нашей работы мы отметили склонность учительствующего эмигранта тесно связывать лексику общего блага с идеями великолепия и чинов, вне какой-либо чиновно-иерархической доктрины. Иерархическое значение имеют в его языке саны, но и они характеризуют скорее душевный мир, чем социальный (отсюда в его сочинениях и переводах выражения душевный сан, богатырский сан и т. п. в обозначение достоинств человека)236. Таким образом, для сочинений князя А. М. Курбского в равной мере до его эмиграции в апреле 1564 г. и после перехода на службу к Сигизмунду II Августу характерно лишенное иерархичности отношение к общественным чинам. Граждане республики-империи, согласно его представлениям, выполняют свои органические функции, которые не подлежат стратификации, а сами достаточны для разграничения коллективного целого и установления внутренних связей и функциональных зависимостей между его частями.
Сто лет спустя после побега князя Андрея Курбского на королевскую службу, в мае 1663 г. четыре вселенских патриарха ответили на вопросы по делу патриарха Никона в «Свитке некоторых вопрошаний». Здесь в главе 3 на вопрос «Аще праведно есть или потребно, да патриарх вѣру даст к царю в писании, и тако стяжет писание от него?» звучит ответ патриархов:
Апостолу гласящу: Вся по чину быти, кий бы чин сохранен был, аще бы патриарх истязал в писаниях, паки писания от царя и от мало сущей вещи, зане царь есть яко твердь народов. Аще бы нѣчто таковаго прилучилося, сугубыя бы началства были во единой монархии равныи себѣ самим, им ж бы вслѣдствовал на тѣ же. Сугубым убо сущим началством не покаряющимся себѣ, паче же разнствующим между собою сущим – тамо и вражда пребывает, идѣже убо вражда, тамо и соблазн…237
Подобные ответы говорят о каноническом устройстве политической мысли в целом, но особенно об отношениях светской и церковной властей и возможности распределения полномочий в спорных ситуациях. Юрисдикции с трудом поддавались разграничению, и проще представить полное невмешательство – дабы не попустительствовать двоемыслию и разногласиям, от которых прямая дорога к вражде и соблазну. Выражение «вся по чину» соответствует подлинному церковному пониманию чинов в Московской Руси.
Универсальные иерархии предшествовали любой попытке конфликтной идентификации, а следовательно, попытка пересмотреть социальные категории Московской Руси – это заведомо движение вслепую по пересеченной местности. В поисках социальных дефиниций мы натыкаемся на множество несообразностей, которые как будто не беспокоят писателей XVI в. Но что заставляет нас ожидать, будто московит XVI в. должен разложить общество (или как-то иначе называемое целое) на стабильные идентичности, объединив их в социальную концепцию? Не входим ли мы при такой логике в роль покорителей Филиппин, о которых пишет Бенедикт Андерсон:
Ибо все дело в том, что где бы на этих островах ни оказались первые священники и конкистадоры, они, высаживаясь на берег, непременно обнаруживали там principales, hidalgos, pecheros и esclavos – квазисословия, почерпнутые из социальных классификаций позднесредневековой Иберии238.
Таким же образом представлял общественное деление индейцев Западной Индии и Христофор Колумб, когда подыскивал определение для услышанного им и его спутниками на Кубе слова cacique:
Ни на мгновение, – пишет Цветан Тодоров, – Колумб не сомневался, что индейцы, как и испанцы, проводят различия между знатным, губернатором и судьей. Его заинтересованность, причем весьма незначительную, вызывают только точные эквиваленты индейцев для этих терминов. Словарная полнота для него содержится в образе имен собственных, которые происходят из свойств самих объектов, которые они обозначают: колонизатора следует называть Колоном. Слова являются не более чем образами вещей239.
Благодаря своей уверенности в необходимости соединять естественный закон мироустройства с местными именами собственными из христианского представления о кинокефалах и самоопределения индейцами своего местоположения Cariba, которое он услышал как Caniba, Колумб образует особый народ, подвластный, как ему кажется, Великому Хану, – каннибалов240. Этот народ предустановлен в Божественном миропорядке (недалеко от народов «Гога и Магога, князя Рос»), но одновременно и обречен быть подвластным имперской власти избранного народа над «псами» (одним из таких народов в европейской средневековой этнографии был «народ рус»)241.
Мало поменялись ожидания испанских проповедников и конкистадоров в Америке в XVI в. Диего Дуран в «Истории Индий Новой Испании» (закончена ок. 1581 г.) сокрушался из‑за беспорядка в современных ему республиках и сообществах и превозносил законы и порядок ацтеков, у которых, по его мнению, было строго определено, кто рыцарь, кто погонщик мулов, кто оруженосец, кто моряк242.
Рабовладение у Дурана в этом случае не названо и в целом не было самоочевидным решением при покорении Западной Индии, как показала полемика Бартоломе Де Лас Касаса с Хуаном Хинесом де Сепульведой. Колониальный механизм работал в позициях обоих проповедников, поскольку и перспективы признания индейцев особой группой влекли за собой необходимость завозить рабов из Африки, и непризнание индейцев означали в будущем их истребление и порабощение. В этом смысле ни сам спор между двумя интеллектуалами, ни вызвавшая его безжалостная конкиста Западной Индии не нарушали сетки социальных координат, в которой формировались представления о подданных испанской монархии.
Не менее радикальным вторжением решался португальцами вопрос в ряде поселений Индийского океана. Здесь «недоставало», по понятиям колонистов, целого класса людей, также предписанного Божественным мироустройством, – домовладельцев. Как отмечает Санджай Субраманьям:
В большей части португальских факторий Индийского океана – в Гоа, Кочине или Малакке – в период между 1511 и 1530 гг. выросла важная новая социальная группа, начавшая позднее в том же столетии играть принципиальную роль: это были casados, или бюргеры, португальские домовладельцы, которые женились на местных и требовали по отношению к себе особого статуса у местной администрации243.
Эти особые поселенцы в Малакке располагали даже своим торговым флотом и боролись за доминирование на местных рынках, активно вмешиваясь в местные социальные структуры. Колониальный опыт не просто проверял на прочность внутренние стандарты социальной дифференциации колонистов, но и наполнял их новыми смыслами.
Интеграция иноземцев в России до Смуты допускала вхождение в служилый класс с сохранением иноверия, а путем крещения – в привилегированный служилый класс, в крестьяне, бобыли или холопы. Наконец, сохранение иноверия не позволяло занять места в российском обществе и оставляло претендента в статусе холопа или ясачного человека244. Указ 1599 г. освобождал нерусских пленных из холопства – из них крещеных не отпускали на родину, женщин выдавали замуж за служилых людей царя, а мужчин записывали в стрельцы и казаки. Как показало будущее, оба этих статуса оставались на пограничье социальной иерархии и были позднее упразднены.
Постановление Первого ополчения донесло до нас иерархию «чинов», осмысленных в том же круге понятий, которыми пользовались частные авторы, государственные и церковные служащие XVI – начала XVII в. Чины незыблемы, как установленная Богом иерархия. Они все
стоят за дом Пресвятыя Богородицы и за православную хрестьянскую вѣру против разорителей веры хрестиянские польских и литовских людей245.
Одна из функций приговора заключалась в том, чтобы перечислить все «чины» и тем самым подчеркнуть выбор воевод ополчения «всею землею». Незаконность и мятежный характер самого акта была в подчеркнутом нежелании всех причастных к нему признавать любую из действующих или частично реализованных монархических властей. Отчасти эта сторона приговора компенсировалась первыми названными в нем «чинами». Ими оказались
Московскаго господарства розных земель царевичи и бояре, и окольничие, и чашники, и стольники, и дворяне, и стряпчие, и жильцы, и приказные люди, и князи, и мурзы, и дворяне из городов, и дѣти боярские всех городов, и атамоны, и казаки, и всякие служилые люди, и дворовые…246
На первом месте после монарха можно было бы ожидать думные чины, однако в приговоре подчеркнуто нет ссылки на единовластного правителя и на его месте оказывается не первый думный чин, то есть бояре, а царевичи – этот титул, если не считать правящей царской семьи, в России XVI–XVII вв. был закреплен за младшими Чингизидами. Это знак того, что Первое ополчение ощущало нелегитимность привычного списка «чинов» в постановлении о сопротивлении действующей кремлевской власти. Показательно, что затем в приговоре говорится о вознаграждении «чинов» вотчинами, поместьями и «кормом» и «царевичи» в общем ряду выразительно пропущены. Нет ни одного царевича и среди подписавших грамоту. Тем не менее их первое место в списке «чинов» говорит о значимости этой фигуры. Статус этого «чина» в приговоре в большей мере отражает символическую подмену монархической власти, на место которой должны прийти новые претенденты вместо всех тех, против кого ополченцы выступают в июне 1611 г.
Приговорам «всей земли» Второго ополчения также выразительно недоставало легитимности. Формула чинов всей земли Московского государства на 1611–1612 гг. призвана была не столько наделить легитимностью ополчение, опиравшееся прежде всего на военную иерархию и подобное в этом качестве не регулярному воинству, а повстанческой фронде, – сколько лишить легитимности все привычные формы политического и административного деления, и прежде всего московское правительство избранного царя Владислава Жигимонтовича и сторонников царей Дмитрия Ивановича и Василия Ивановича, но не в последнюю очередь – служилые города. Необходимость при помощи «чиновной» риторики нанести удар по городам была вызвана тем, что служилые города к 1611 г. выполняли функцию полномочных представительств, ввергая страну во все большую раздробленность, поскольку легитимность власти находилась в зависимости от тех решений, которые принимались властями и вооруженными силами каждого отдельного уездного центра. Рассказывая в октябре 1612 г. о победе над войском Яна-Кароля Ходкевича под Москвой, бояре Ополчений особенно подчеркивают, что «в собранье» с ними «бояры многая рать», и уже не ссылаются на все чины, а лишь указывают свое военное господство над поляками, литвинами, венграми и черкасами и требуют денежных присылок на выплату жалованья:
…и приходят к нам дворяня и дѣти боярские, и атаманы, и козаки, и стрѣльцы, и бьют челом о денежном жалованье, а нам им дать нѣчего, которые денги были в привозѣ – и тѣ розданы ратным людем на жалованье247.
Впрочем, несмотря на нехватку финансов, командование Ополчений продолжало и до, и после взятия Москвы выступать от лица «чинов» и «всей земли», как и раньше, не в поддержку своей власти, а в подтверждение своего права противостоять любой легитимности. Лишь после принятия соборного решения о венчании на царство Михаила Романова возникла перспектива вытеснения атаманов, казаков и стрельцов за рамки Божественной иерархии и «возвращения в чины». В 1613–1615 гг. «чины» Московского царства получили новую легитимизацию благодаря процедуре «возвращения» казаков через сложение ими оружия. Вхождение в «чины» долгое время после Смуты предполагало выход из мятежных вооруженных формирований, но не полное разоружение, о котором пишут церемониальные источники 1670‑х гг. С другой стороны, само понятие чины к концу царствования Алексея Михайловича мыслилось в официальной документации в связи с идеей служения государству, и эта «этика» получит воплощение в Петровскую эпоху в чинопочитании и табельном отношении к чинам как к рангам на государственной светской и военной службе. Производство в «чин» отныне уже не вторжение в мироустройство, а обычная практика военно-социальной мобильности.
Избрание Михаила Романова «всѣх чинов людьми» – момент легитимизации высшей власти, память о чем не просто сохранялась в юбилейном 1673 г., когда была создана парадная «Книга об избрании на царство Михаила Федоровича», но и была визуализирована образом людской волны, затопившей на Красной площади округлую трибуну, с которой Авраамий Палицын и другие иерархи и советники объявляют о постановлении Земского собора248. Сильвестр Медведев в 1682 г. определением «и многое множество служилых и всех чинов людей» замыкает ряд сопровождавших царя бояр, окольничих, думных людей и «весь сигклит». Заложенное в этой формуле единство «всех чинов» со «служилыми» говорит о том, что в московской церемониальной культуре наметилось сближение между доктринами государственной службы и божественного предназначения, все еще осознаваемого как неотъемлемая часть представлений о «чинах»249.
В России XVI–XVIII вв. натурализация была допустима через военную службу. Единого принципа для перевода иноземных традиций на русский язык не существовало, как и единого последовательного принципа принятия в подданство или единого института подданства для всех территорий, входящих в состав Российского государства ни до возникновения Петровской империи, ни на всем протяжении ее истории до 1917 г. «Учинение в холопство» новых государств в составе Российского царства, как и в Испанской и Португальской империях, не создавало никаких новых классов, даже если образ жизни новых подвластных сильно отличался от российских обычаев. Это не значит, что между иронией москвичей в отношении новгородцев эпохи Шелонской битвы и рассуждениями о «чинах» Николая Спафария в московской культуре не рассуждали о социальных градациях.
Троичные и четверичные социальные доктрины – плод христианского воображения. Их подкрепляют духовные учения о миссии «сословия», королевские привилегии, формы доминирования, определенные знаки межсословного различия, правила и границы инклюзии, механизмы межсословной мобильности. Было бы анахронизмом искать у Ивана Пересветова, князя Андрея Курбского, Авраамия Палицына или Феофана Прокоповича осмысленное теоретизирование вне христианского воображения, как если бы финальной точкой в развитии социального сознания «старого режима» был трактат аббата Эммануэля-Жозефа Сийеса «Что такое третье сословие?». Растиражированный в России под титулом «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (М., 1647, тираж – 1200 экз.) перевод трактата «Военное искусство пехоты» И. Я. фон Вальхаузена (1615 г.) предлагает структуру общественных функций, которые в переводе названы «делами»: ратные, судебные и лечебные. В качестве специализации автор предлагает учиться «в науках» пехотных, рейтарских, крепостных, пушечных, морских250. Функциональный подход немецкого теоретика почти не затронул ни военного дела, ни общественных отношений. Как показал О. В. Русаковский, книга Вальхаузена была принята в России скорее как занимательная литература, чем как пособие251.
Еще И. Т. Посошков был далек от политизации «чинов», когда в своем политико-экономическом трактате «Книга о скудости и богатстве» (1724 г.) приводил сетку «чинов», которые не должны препятствовать торговле и прямо в ней участвовать. Он называет в общей сложности семь чинов, допуская возможность перехода путем записи из шести прочих чинов в купечество и видя опору своей рациональной модели в имперской власти, которая должна гарантировать чинам их место в государстве:
Буде кто коего чина ни будь, аще от сигклита, или от афицеров, или от дворянства, или приказных людей, или церковные причетники, или и крестьяне похотят торговать, то надлежит им прежний чин оставить и записатца в купечество и промышлять уже прямым лицом, а не пролазом…252
Не меньшей ошибкой было бы полагать, что московские книжники до начала XVIII в. не знали никаких социальных градаций и иерархий и не задумывались о том, что мы сейчас назвали бы «социальными идентичностями», «социальными ролями» или «социальной стратификацией». В некоторых случаях рассуждения на эти темы производят впечатление вполне организованного дискурса, допускающего локальные обобщения и семантические интерпретации. Многое в этих случаях зависит от того, как прочерчены пределы компетенции дискурсивного анализа, какой степени «системности» следовало бы ожидать от источников и как мы организуем эти «дискурсивные объекты»253.
Такое слово московских источников XV–XVII вв., как чин, омонимично для русского языка нашего времени. В той культуре оно, как и слова земля, народ, царство, встроено в специфические дискурсивные отношения, которые могут не складываться в единую социальную поэтику, или habitus254. Вместе с тем московские книжники проводят ревизию понятий, известных еще в Киевской Руси, и наделяют их смыслами таким образом, что закономерна постановка вопроса о постепенной реорганизации структур смыслонаделения. Церемониальное действие более информативно для тех понятий, которые тесно связаны с визуальной и жестовой репрезентацией и в нем же наделены устойчивыми – по крайней мере, повторяющимися в однообразных источниках на протяжении многих лет – значениями. Чины в культуре Московского царства не подчиняются ни военно-табельной иерархии, ни функциональному делению общества модерной эпохи. Невалентны они и к открытиям иных социальных устройств, каковые происходили с конца XV в. постоянно по мере расширения военных и дипломатических контактов, столкновений с Другим на окраинах государства и за его пределами.
Встреча царя: привитие власти
Народ до 1550‑х – начала 1560‑х гг. лишен служебной идентификации, но не сопоставлен со служилыми людьми. При Иване IV в России возникает народ, который противопоставлен служилым холопам государя и духовенству. Именно это значение возникает из толкования миниатюристом «третьей процессии» в сцене встречи Ивана III из Новгородского похода в Лицевом своде. При учреждении опричнины царь выстраивает такое отношение между социальными классами, которое еще при Василии III летописцу могло показаться странным. Гнев и опала царя распространяются на его богомольцев, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов, бояр, дворецкого, конюшего, окольничих, казначеев, дьяков, детей боярских «и на всех приказных людей» за то, что они после Василия III «при его господарьстве вь его господарьские несвершеные лет» «его господарьства людем многие убытки делали». Далее перечислены прочие вины виноватых, которым подведен итог:
И о господаре и о его господарьстве, и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов его от крымского и от литовского, и от немец не хотя крестьянства обороняти, наипаче же крестьяном насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и за православных крестьян кровопролитие против безсермен и против латын и немец стояти не похотели255.
Второй грамотой, посланной с Константином Поливановым в Москву, царь вносит необычное различие, которое может показаться не столь значимым на фоне готовящихся опричных мероприятий: он пишет «к гостем же и х купцом и ко всему православному крестьянству града Москвы… чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет»256. И хотя «множества народа» этими переменами напуганы не менее опальных, в дискурсе летописного сообщения заложено противопоставление «народа» и опальных, причем равным образом духовенству и служилым людям не удалось бы скрыться от царского гнева, причислив себя к «православному крестьянству». Высшее духовенство и высшие служилые категории государева двора в этом необычном тексте устранены из рядов православного христианства, а народ, которому предстояло присутствовать на казнях и расправах, превращен в соучастника царских замыслов.
Православный народ – или «все людие» – в царских грамотах декабря 1564 г. и царских речах, произнесенных на соборах покаяния в Москве в феврале 1549 г., в Новгороде в феврале 1570 г., в Москве в 1580 г., противопоставлен язычникам, еретикам, богохульникам и другим противникам христианства, а также главным соперникам власти, с точки зрения нового политического богословия, – изменникам государя257.
Образ воинственных изменников, противостоящих всему государству, сформирован царскими посланиями и родственными им текстами. Начиная с Первого послания Андрею Курбскому, завершенного 5 июля 1564 г., Иван IV регулярно в своих сочинениях возвращается к теме изменников, ведущих войну против него из‑за пределов России. Это вызывало отпор и иронию польско-литовских монархов. Но в России объяснение вражды со стороны соседнего государства происками изменников стало расхожей интерпретацией. Противники православия, объединившиеся с изменниками, показаны на фоне народного единения православных в «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков». В начале истории курляндские немцы совершают измену царю и обращаются за помощью к Курбскому и другим изменникам, которые короля Стефана «на росийскаго царя воинством подъемлют»258. Рассказ о наступлении врагов после обстрела Пскова сопровождается ремаркой о том, что бояре, воеводы, воинские люди и псковичи «в осадный же колокол звонити веляше в Середнем городе, на стене градовной, у Великаго Василья на Горке, весть дающе литовского ко городу приступу всему псковскому народному множеству»259. Здесь понятие псковское народное множество относится ко всем горожанам, но, судя по дальнейшему описанию штурма, прямо не распространяется на освященный собор, воевод и воинских людей. Впрочем, затем триединство народного множества, освященного собора и руского хрестьянского воинства противостоит неверным: литовскому королю с его дворянами и первосоветниками, литовским людям или литовскому воинству, рохмитстам (т. е. ротмистрам) и гайдукам.
Народ в сознании автора объединяется с христианским воинством, тогда как изменники – с неверными. Подтекстов «Повести о прихождении» нет в «Сказании о Псковском взятии» псковского автора, писавшего по следам осады Пскова и относившегося к нападающим как к единоверцам260.
«Соборное определение» избрания царя Бориса Федоровича Годунова на московский престол открыло еще одну ипостась «народа». Книжники из окружения патриарха всея Руси Иова искали средства для легитимации свершившегося на Земском соборе избрания, и вслед за необычным указанием на то, что еще Иван Грозный «вручил» царя Федора Ивановича его шурину (воля Бога в данном случае также важна: «его же изначала предъизбра Бог и возлюби») говорится о решении всего освященного собора, бояр, дворян «христолюбивого воинства» и «всех православных христиан»261. Эта риторика не была присвоена властью, а была ей поручена. Еще 21 февраля 1598 г. во время повторного многолюдного шествия во главе с патриархом к Новодевичьему монастырю, где находились царица Ирина Федоровна и ее брат, патриарх грозился отлучить «господаря Бориса Федоровича» от причастия за отказ от восшествия на престол и тем самым – от «многочеловечного Богом собранного народа»262. Глава церкви в данном случае выполнял все ту же миссию ответа за паству, которая и определялась при помощи слова народ и присоединяемых к нему, выводимых из него же чинов. Бог и Его народ избрали царя, и это избрание было недостаточным, но значимым способом легитимации власти ее носителя из нецарского рода. Поскольку воли Бога и царя (воли царя Федора Ивановича явлено не было, поэтому пришлось ссылаться на волю его отца) было недостаточно, церковь определила решение, позднее реализованное в неведомой до той поры присяге «чинов» Московского государства. Целование креста на верность приобщало не только народ к царю, но и каждого присяжного к Богу и Божественной воле, тем самым уравнивая церковную общность и политическую. Для московской политической культуры эта новация не стала единичным случаем в годы Смуты, а закладывала основы для особого ритуала, сохранявшегося позднее вплоть до падения монархии в России263.
В таком значении понятие «народ» сохраняется в Москве без перемен вплоть до событий Смутного времени. Действующей исторической силой представлялось московитам «все православное християнство руского народа», которое все так же возникало на горизонтах общественной жизни в церковные торжества. В «Повести протопопа Терентия» 1606 г. Христос, Богородица, Иоанн Предтеча и все святые отцы призывают «народ» к покаянию, и «народ» узнает об этом, собравшись 14 октября 1606 г. в Успенском и Благовещенском соборах, а узнав о божественном гневе, – обращается к шестидневной молитве «за все православное крестьянство» и укрощение междоусобиц264. «Видение» Терентия, видимо, было инспирировано Василием Шуйским и патриархом Иовом, язык «Повести» отражает официальные взгляды, понятийную систему и религиозность кремлевских властей. Выше мы высказали предположение о происхождении иконы «Богородица с народом» в связи с «Повестью Терентия». По мнению Сергия Плохия: