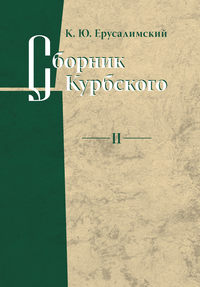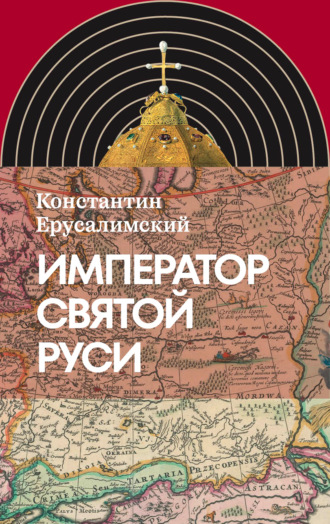
Полная версия
Император Святой Руси
Московские «народные» процессии в Лицевом своде переданы одними и теми же приемами. Это – идущие в одну сторону или друг навстречу другу толпы во главе с церковными и светскими властями, за которыми неразличимы «чины», профессии и люди простого происхождения. В каком-то смысле это ответ на вопрос о том, насколько сознание читателя середины XVI в. акцентировало социальные различия. Мы обнаружим в визуальных интерпретациях всего три основные формы различия, и все три не имеют социального подтекста. Во главе процессий бывают, во-первых, великие и другие правящие князья, во-вторых, митрополит и главы монашествующего духовенства и, наконец, великие княгини, то есть визуально – первые женщины. Это же касается знамений и видений, в которых визионеру открывается церемониальная процессия201.
Остальные маркировки касаются не чиновных, профессиональных или иных социальных градаций, а возраста, причастности к тем или иным моментам церемонии, обстоятельств прохождения самой процессии, ее предметной реальности или ниспосланной ирреальности. Первые фигуры в процессии во многих случаях несут на себе всю полноту смысловой нагрузки текста, воплощая упомянутый в них «слой» общества. Это не иерархия, а репрезентация текста, и ее задача в том, чтобы маркировать единство всех и каждого, а не социальную иерархию. Существенных различий во всем названном с тем, как миниатюристы работали над иллюстрированием древнейшей и византийской истории, не обнаруживается, хотя сами обстоятельства схождения людей и некоторые формы репрезентаций «народных» собраний и «множеств» людей в дорусской древности иные.
Никогда в репрезентациях «народа» на пространстве русской истории не выступают фигуры в доспехах. С точки зрения миниатюристов и авторов визуальной программы, как показывают повесть о приходе Тохтамыша и сцены из истории Великого Новгорода, вооруженный народ – это нездоровая аномалия. Народ, в этом смысле, это не-войско и не-воины. Грань между разоруженными людьми и воинами в середине XVI в. мыслилась как непреодолимая. Люди из народа не должны брать в руки оружие, в противном случае они мятежники. Это заметно отличает конвенцию в репрезентации «народа» по сравнению с теми условными языками, которые обнаруживаются в Лицевом Хронографе, прямо предшествующем русской истории в составе Лицевого летописного свода. И нарушит эту конвенцию, как мы увидим, единство духовенства, народа и народного множества в приход Стефана Батория на Псков в 1581 г. и серия ритуальных ходов «христолюбивого воинства» со «всем народом Московского государства» после сдачи Кремля властями царя Владислава Жигимонтовича в октябре 1612 г.
Итак, можно наметить некоторые заметные сдвиги в самосознании книжников между концом XV в. и периодом создания миниатюр Лицевого свода. Моральные подтексты народных движений заключались для книжников в том, что сами мятежи горожан воспринимались как злой знак и руководство к демонизации коллективного субъекта. Москвичи во время нашествия Тохтамыша, с точки зрения миниатюристов, неоднократно совершали преступления и вели греховный образ жизни, даже несмотря на то, что соблюдали верность православию и вели борьбу против царя-иноверца. В сценах борьбы между Москвой и Великим Новгородом определились отличия московского народа от новгородского и псковского. Народ у мятежных новгородцев устроен и описан сходно с тем, как художники представляли себе и московский народ, однако в изобразительную программу внесены явные признаки вторичности, мятежности и подчиненности новгородских горожан и псковской земли по отношению к Москве. Новгородцы описаны и представлены как неспособные к войне с законной властью, а следовательно, безумные люди, разрушающие себя и свою республику (народ горожан), тогда как псковичи – как послушные и верные договорам с Москвой (они в переговорных и сервильных позах на миниатюрах). Наконец, в сцене возвращения Ивана III особенно интересным представляется образ простых москвичей, которые встречают великого князя из похода «хлебом-солью», не будучи возглавлены ни князьями, ни высшим духовенством. Эта визуальная интерпретация буквально одной строки из летописи позволяет миниатюристам создать представление о «народе царя», о тех простых горожанах, к которым Иван Грозный обращался на рубеже 1564 и 1565 гг. в указе о создании опричнины. Этот «народ» осознанно отделен от двух других – пришедших с князьями-сыном и братом Ивана III и встречающих победителей позже во главе с митрополитом. И если для летописцев в этом «третьем» народе нет никакой процессии, то для миниатюристов было достаточно упоминания, чтобы сформировать разрозненные «встречи» на подходах к Москве в организованные процессии людей без отличительных чиновных особенностей, без шапок и без определенного возраста.
Был ли комплекс подобных взглядов на «народ» устойчивым явлением в московской культуре? На этот вопрос помогло бы ответить подробное исследование шествий и других коллективных композиций в лицевых рукописях в ранней печатной миниатюре Российского царства и Российской империи XVII–XIX вв. (в ряде культурных ниш – вплоть до наших дней). Мы лишь наметим ряд предметных полей и спорных интерпретаций.
Предположительно, от второй половины XVI в. известна икона «Богоматерь Моление о народе». По своей иконографии данный образ представляет собой Богородицу-Просительницу (Параклесис)202. Особенность интересующей нас иконы – представительство Богородицы со свитком от лица московских «чинов». Судя по всему, ее круг распространения очень узок – это кремлевские храмы. На образе Богородица предстоит за свой народ перед Господом, передавая Ему свиток. Справа от крупной фигуры Богородицы – народ духовный и мирской. Во главе депутации – митрополит всея Руси Иона в белом клобуке и с нимбом и два князя с обнаженными головами – великий князь Василий Васильевич (Темный) и, по предположению А. С. Преображенского, его сын великий князь Иван Васильевич (Иван III). Оба великих князя к моменту возникновения данного иконографического сюжета уже умерли203. Митрополит Иона, если судить по нимбу над его головой, уже причислен к лику святых, что указывает на возникновение иконы не ранее 1547 г. Впрочем, исследователи обращали внимание на то, что прославление Ионы началось уже в момент вскрытия его мощей в 1472 г. Т. С. Борисова, следуя исследовательской традиции, относит данную икону ко времени Василия III («первой четвертью XVI в.»)204.
Впрочем, если это предположение верно, то остаются неразрешимые вопросы – почему митрополит представлен в белом клобуке, а в толпе народа стоят также царь в лучевом венце, царь в Шапке Мономаха и царица в лучевом венце. Оба царя – бородатые. Шапка Мономаха приняла подобный вид не ранее времени Василия III и использовалась для изображения Владимира Всеволодича Мономаха, а лучевой венец украшал голову венчанных императоров, а из русских правителей – Владимира Святославича Святого205. Судя по всему, эти царственные персоны – это и есть Владимир Святой, Владимир Мономах, а женщина в венце – вряд ли царица Анна. Наряду с царственными Владимирами во второй половине XVI в. в царицах почиталась княгиня Ольга, чье вероятное изображение представлено и на данной иконе206.
Все названное представляет рефлекс «Сказания о князьях владимирских», однако в сопровождении митрополита Ионы в белом клобуке и с нимбом, а также преклоненных Василия III и Ивана III и княгини Ольги в царственном венце данный рефлекс представляется уместным не в правление Василия III, а в период после канонизации Ионы, создания Степенной книги, принятия белого клобука митрополитами всея Руси в 1563 г. и развития культа «царицы Ольги». Вероятным моментом для поклонения подобного рода следовало бы считать конец XVI – начало XVII в.
В отличие от «народа» миниатюр Лицевого свода весь народ иконы «Богоматерь Моление о народе» воплощает круг святых, которые выступают на иконостасах и в церковной росписи. К ним присоединились святые жены и матери с младенцами и цари с царицей. Этот народ и есть церковь как собрание верных, и сейчас они обращаются за поддержкой к Богородице, чтобы спасти церковь от различных напастей. Можно предположить, что данная икона воплощает видение, записанное протопопом Кремлевского Благовещенского собора Терентием в октябре 1606 г. Терентий не оказал должного почтения царю, даже когда Лжедмитрий I венчался на царство и был смещен, а восстановлен после возведения на патриаршество Гермогена. К Москве приближались войска И. И. Болотникова и Истомы Пашкова, и явление Богородицы во сне некоему благочестивому москвичу отражало потребность в небесном покровительстве. Во сне в Успенском соборе святые и Иоанн Предтеча упросили Богородицу, а Богородица – Христа о пощаде для москвичей и их города. Это было крупное сакральное событие, признанное церковью и властью. После публичного прочтения видения в Успенском соборе «вслух во весь народ» («предо всеми государевы князи и дворяны, и гостьми, и торговыми людьми, и всего Московского государства православным хрестьяном») 14 октября горожане приняли шестидневный пост и готовились к войне. Христос призвал всех к покаянию и напомнил, что «несть истинны» в царях, патриархах, священническом сане, «ни во всем народе Моем, Новом Израили»207. Можно, таким образом, предположить, что икона «Богородица Моление о народе» визуализировала данное видение, скопированное современниками во множестве списков, а следовательно, относится не к концу XVI в., а к концу 1606 г. или более позднему времени208.
В католичестве со времен Григорианской реформы бытовали коллективные изображения злых сил, образующих скопления и даже в своем роде «народы». Этому содействовали представления о единстве незамоленных душ, подтолкнувшие догматику к утверждению Чистилища209. В восточном христианстве так далеко сходные мысли не завели, но вместо блуждающих незамоленных душ и порождений ада монашеский быт уже с XI в. заполнили полчища бесов. Изображение их на иконах не подчинялось конвенциям, принятым для людей и церковных сообществ. Бесы на русских иконах движутся без чинной статности, они бегают поодиночке, расставив в движении лапы. Их черты повлияли на представления о «нечестивых» народах: огненные и высокие «литовские» шапки, как бы скрывающие рога, крупные «еврейские» носы и «ляшские» или «украинские» хохлы на голове. Однако так и не сформировалась традиция изображать на иконах сами полчища бесов в качестве визуального единства.
Наоборот, благочестивые процессии в лицевых рукописях и на иконах подчиняются иконической программе, во многом сходной с теми конвенциями, которые обнаружены нами уже в Лицевом своде Ивана Грозного и на иконах конца XV – начала XVII в. «Народ мног» в белых ризах в Толковом Апокалипсисе 1660‑х гг., испытавшем влияние киевского печатного протографа, изображен в виде трех рядов мужчин в нимбах и разноцветных одеждах под небесным ярусом – за ними множество уходящих в глубь композиции нимбов, а вокруг них преклоненные мужские фигуры210.
Женские и мужские депутации положено было изображать обособленно. На миниатюре из лицевого сборника 1670‑х гг. (не позднее 1679 г.) святой князь Михаил Черниговский (он без бороды в княжеской шапке) и его святой боярин Феодор (он в бороде и без шапки) направляются в Киево-Печерский монастырь во главе бояр (на втором плане один из них – с обнаженной головой и в бороде), тогда как его жена изображена во главе особой колонны женщин за князем и боярином (все жены – с покрытой головой)211. Лицевое житие Евфросинии Суздальской в списке 1670–1680‑х гг. показывает, как встречается колонна женщин во главе со святой Евфросинией с выжившими горожанами после разорения татарами Суздаля: святая во главе монахинь направляется к горожанам с обращенными в их сторону руками, тогда как те, стар и млад, с обнаженными головами выходят из крепостных ворот им навстречу212. Похожим образом в расположении мужской и женской колонн представлена в той же рукописи молитва Евфросинии Суздальской от землетрясения («труса»)213.
В рукописи конца XVII в. миниатюра, изображающая выплату дани татарам после взятия ими Владимира-на-Клязьме в Батыево нашествие 1238 г., представляет «оставших хрестиян» как депутацию мужчин в бородах и без бород, без головных уборов, склоненных перед татарским воинством и несущих им две полные коробьи. Господство татар – они под стягом, в высоких шапках, особых кафтанах и халатах, с особыми стрижками – обозначено еще и жестами рук. При этом первый из татар снял шапку в знак приветствия, но отвернулся к своим, обсуждая с ними происходящее214. Отличия русских от татар переданы на миниатюре через физическую антропологию и военную атрибутику, при помощи которых формировались визуальные различия между «народами» в рамках систематизирующих кодов, призванных визуально легитимизировать доминирование, наделяя саму классификацию признаков структурными значениями215. Это различие нового типа задавало принципиально иную оптику, несопоставимую по своим критериям с формами репрезентации «народа» в памятниках Московского царства.
В рамках визуальной антропологии П. С. Стефанович провел многогранный и детальный анализ такого ценного источника, как «Книга об избрании на царство Михаила Федоровича» (1673 г.) (илл. 20)216. Это в своем роде юбилейный коронационный альбом, содержащий 21 миниатюру с изображением событий 1613 г. и их словесные описания.
Предыстория венчания Михаила Романова на царство включает в нарративной части многократные ссылки на народную волю. Среди них и упоминание избрания на царство Бориса Федоровича и всенародного избрания Федора Борисовича (Годуновых) в 1598 и 1605 гг. («по избранию вашему», «по воли Божией и по избранию всенародному»)217, избрание царя Василия Ивановича (Шуйского) в 1606 г. («по вашему избранию»)218 и Владислава Жигимонтовича в 1610 г. по обольщению и злому совету («народу же совѣт не благ бысть»)219, и единство «благочестивых от воинства и всего народа» в сопротивлении иностранным властям в 1610–1612 гг.220
В «Сказании» Авраамия Палицына, как мы видели в начале этой книги, страну спасало в 1612 г. только чудо за чудом, проявленные в молитвенном заступничестве самого Авраамия и всего народа, готовности казаков вернуться к сотоварищам и решительности ополченцев и лично Авраамия в победоносной борьбе с кремлевским гарнизоном. В «Книге» 1673 г. нет уже ни героизма Авраамия, ни казаков. Вооруженный народ, согласно этому источнику, одерживает победу над польскими и литовскими «народами», собирает собор из митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов, «и весь освященный собор, и всенародное множество православных христиан». И уже собор призывает всю страну («по всей же России всѣ православныя христианя») к трехдневной молитве, в которой Господь являет милость и внушает каждому Своего избранника.
В «Книге» избрание описано сходно с тем, как его изображает Авраамий Палицын. Имя Михаила Романова внушено всем Господом, и на соборе все собравшиеся единодушно сообщают друг другу волю Бога («и глаголюще койждо ближнему своему»). Об этом представители по чинам «и всяких чинов люди» извещают на Троицком подворье Авраамия, а тот приносит радостную весть на собор духовенства, бояр, воевод и всего царского синклита, о чем с Лобного места объявляют «всему воинству и всенародному множеству» рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Морозов221.
Церемониальная память середины – второй половины XVII в. вычеркивала из прошлого неопределенность и сомнения. «Весь народ» на миниатюре к этой сцене окружает Лобное место, на котором, как на трибуне, собрались представители «высшей палаты» собора. Бородатые и безбородые мужчины без головных уборов единой волной охватывают Красную площадь, хотя вокруг также за ними наблюдают люди, сошедшиеся из Кремля и отовсюду. Переговаривающиеся между собой в толпе, видимо, произносят друг другу изъявленное Богом имя царя. Поднятые вверх в «советнической» позе руки других – это часть сцены аккламации имени Михаила Федоровича:
Михаил же Феодорович да будет царь и государь Московскому государьству и всея Русския державы!222
Сцена венчания в Успенском соборе представляет саму церемонию и «весь народ», принимающий в ней участие вместе с образами с иконостаса, на котором святые прописаны наряду с современниками, окружившими царя, – высшим духовенством, знатью и всеми присутствующими в актуальной «реальности» в день венчания Михаила Романова на царство. Это единство – в соразмерности образов, раскраске и единстве двух планов композиции (горизонтального – плана церемонии венчания и вертикального – плана иконостаса) (илл. 21)223.
«Народ» на торжественных процессиях и их визуальных репрезентациях XVII в. предстает в качестве особого субъекта, облеченного властью, однако не обладающего исключительным правом на Божественную волю или управление в стране. Нередко этот субъект заблуждается, устраняется от дел или повергается во внутренние распри. И если в оппозиции «своего» и «иноземного» народа в годы правления царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича намечается санкционированный самими Романовыми раскол, который еще в годы Смуты был невозможен и в дискурсах не выражен, то в толковании «воли народа» язык легитимации начал складываться еще в 1610–1612 гг. В предельном выражении этот язык предполагал лишение легитимности любой из действующих на 1610 г. властей постановлениями «Совета всея земли» и «всего народа» до подготовки и проведения вооруженными конфедератами-ополченцами всеобщего избрания на царство. Формально, как наряду с другими источниками показывают памятники церемониальной книжности 1670‑х гг., цари Михаил и Алексей Романовы продолжали признавать властное решение народа, однако дополнили образ «народа» теми чертами, которыми на 1612 г. этот субъект не обладал и обладать не мог224.
Чины народа
Социальная стратификация, как и в европейской рефлексии XVI в., имеет в России множество уровней обобщения и далека от того, чтобы представлять рациональную или кастовую систему. Границы общественных «чинов» подвижны, а число «чинов» зависит от «точки отсчета». Из этого не следует, что в московской культуре не были известны средневековые и более поздние европейские модели общественного устройства. К примеру, высказано предположение, что в Московском государстве неизвестна средневековая троичная схема рыцари (bellatores) – духовенство (oratores) – трудящиеся (laboratores)225. Однако применительно к российской культуре найти прямой аналог тринитарной структуры в текстах средневековой православной культуры не удается. Введение в России сошного обложения в 1555 г. происходит на основе различия норм наделения землей в зависимости от принадлежности к одной из трех социальных групп: дворянству, духовенству и крестьянству. Это неосознанное совпадение? Если да, то нам приходится признать существование социальных универсалий, еще более бесплотных, чем социальные дискурсы226.
«Чинами» в русских землях, как и в Европе латинским понятием «ordines», было принято называть, в числе прочих значений этого слова, различные группы людей по «хитростям», или «рукоделиям», то есть профессиям. Уточнить эту общую понятийную рамку нам предстоит с учетом как словоупотреблений в документальных источниках, так и представлений интеллектуалов.
П. В. Седов, опираясь на коллективную дворянскую челобитную 1658 г., где упомянуты четыре «чина Московского государства» («освященный», то есть духовенство; «служивый», то есть дворянство; «торговый», то есть купечество; «земледельческий», то есть крестьянство), полагает, что язык российского XVII в. «не знал иноземного слова „сословия“»227. В развернувшейся по мотивам исследований П. В. Седова дискуссии О. Е. Кошелева и М. М. Кром высказали замечания о применимости сословной терминологии не только к России XVII в., но и в следующем столетии, и в отношении других стран Нового времени228. М. А. Киселев видит, тем не менее, в челобитной «о четырех чинах» (автор датирует ее примерно 1660 г.) проект гражданского переустройства и подчеркивает попытку сословной реформы (церковный, служилый, торговый и земледельческий)229. Между тем обращает на себя внимание тот факт, что челобитчиками выступили дворяне, а следовательно, само «чиновное» деление, на наш взгляд, близкое к сословной модели «ordines», воплощало именно дворянские представления о государственном порядке, который они предлагали царю Алексею Михайловичу закрепить «в своем уставе и в царском повелении твердо».
О «чинах» в сходном понимании писал в 1563 – начале 1564 г. князь А. М. Курбский Вассиану Муромцеву. Во время реформы «сошного обложения» в России была частично проведена в жизнь реформа, близкая к «волочной помере» в Великом княжестве Литовском, позволившая разделить все оседлое владельческое население на три группы, близкие к сословным. Впрочем, ни в 1555 г., ни в 1658 г. никаких особых твердых прав «чины» не получали, да и понятий какого-либо представительства от «чинов» не сложилось. Учения Епифания Славинецкого, Юрия Крижанича и Николая Гавриловича Спафария содержат слова о формах правления, но даже близкая к автохтонной идея Спафария о трех чинах градов (царственном, изрядном и народном) является рефлексом учения Аристотеля, а не переводом российских реалий на язык теории.
Максим Грек, рассказывая о жизни на Афоне, называет среди монашеских «чинов» сапожников, кузнецов, портных, столяров, изготовителей посуды, дровосеков, виноградарей, рыбаков, переписчиков, переплетчиков230. Никакие профессиональные объединения, подобные «цехам», не объединяют этих мастеров – только сам монастырь и служение Богу. Впрочем, средневековое городское пространство было насыщено объединительными формами – например, старые названия улиц отражают единство поселений по профессиональной принадлежности. Из этого ни в Новгороде, ни в Москве, ни в других русских землях XV–XVII вв., не попавших в зону действия европейского цехового права, не складывались устойчивые объединения.
Еще один текст, в котором предложена попытка стройного описания общественных «чинов» как групп населения, выполняющих определенные роли, – это Второе послание А. М. Курбского Вассиану Муромцеву, которое относится приблизительно к 1564 г.231 Описывая «все землю нашу рускую от края до края», Курбский обнаруживает множество «нестерпимых бед и различных напастей», которые постигли «державных», «священнический чин», «воинский чин», «купецкий чин»:
И како ныне [древний змий] в нашей земли злим советом своим горняя доле постави, чины чином злыя обедники сотвори, и братиям единоверным вместо хлеба единым от других снедатися учини, умышляет вся злая беспрестани, и научает человеков а сопротивных к Богу обращатися?232
«Чины» не только тяготятся внутренними противоречиями, но и превращаются в «пожирателей друг друга». Возможно, перевод слова «чин» современным «сословие» был бы поспешным, однако «чин» приближается по своему значению в этом контексте к европейскому средневековому «ordo». Ни один законодательный текст не определяет русское общество середины XVI в. таким же образом, как князь Андрей Курбский в послании в Псково-Печерский монастырь. Но законодательство того времени уделяет мало внимания общественным стратификациям, профессиональной принадлежности, правам и обязанностям «чинов» по отношению друг к другу, к власти или Богу. При этом даже князь А. М. Курбский не ограничивается в своих сочинениях одним пониманием «социальной стратификации». Ценным, если не уникальным, источником по изучению преемственности социальных взглядов в России и в Европе становятся эмигрантские сочинения Курбского, содержащие в вопросах о «чинах» следы преемственности с его доэмигрантскими посланиями.
В предисловии («Истории краткой») «Нового Маргарита», составленном около 1572 г., он напоминает о нападении крымского хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 г.: город сожжен
со множайшими церквами божиими и со бещисленными народы хрестиянскими и с чиноначалники обоих чинов, мирскаго и духовнаго233.
В этом – признание того, что существуют особые мирской и духовный чины. Однако в ином разрезе предстают отношения войны и мира в сообществе. Здесь же Курбский говорит о своих службах царю «в чину стратилацком, потом в синглицком»234. Следовательно, существуют особые полководческий и советнический чины. В «Истории о князя великого московского делех» слово «чин» встречается применительно к социальным или должностным иерархиям и с более размытой семантикой упорядоченности, порядка («презвитер чином»; «стратилацкие чины устрояют ч»; «по ину благочинне устроени полки»; «со многим благочинием и устроением полков»; «и сицевым чином место и град бусурманский облегоша»; «по чину рыцарскому»; Сатана ниспал и не сохранил «своего чина»; «в советническом чину сущу мужу»; монашество – «ангельский чин»; «духовный чин»; по словам апостола Павла, «о Христе все оживут кождо во своем чину»)235. Ни в одном из приведенных примеров слово «чин» не означает иерархическую ступень, а обозначает, нередко в самом общем виде, общие порядки и предназначения.